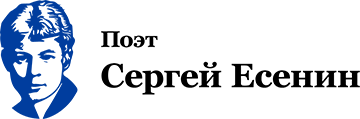А заря есенин стих
24.01.2018Стихи русских поэтов есенин
24.01.2018Ахматова и Есенин. Правду и ничего кроме правды!
Деревенская тема была глубоко не чужда Анне Ахматовой. Начиная с 1911 года она каждое лето проводила в Слепнёве — небольшом имении её свекрови, и об «огромном значении для неё Слепнёва» вспоминала всю жизнь.
Возможно, как полагает Елена Петрова, уже в 1913 году Ахматова написала такое, совершено не в её привычном стиле, стихотворение.
Во всяком случае, о его существовании исследователи узнали лишь после смерти АА, а при жизни она его никому не показывала.
Нет, одному человеку показывала и даже, скорее всего, подарила, потому что этот человек помнил это стихотворение наизусть.
И был это не кто иной как юный рязанец, стремительно входящий в моду — Сергей Есенин. Его АА уже могла видеть на эстрадных подмостках, о нём ей мог рассказать их общий друг — Володя Чернявский.
Во всяком случае, когда Есенин оказался в Царском Селе, у него возникло законное желание познакомиться с уже знаменитой поэтессой, и он, ничтоже сумняшеся, решил нанести ей визит. Решил — и нанёс. Но АА, будучи старше его на целых 6лет, была тоже, что называется, «не лыком шита». Он думал, что идёт в гости к светской даме, а она была уже несколько лет как деревенская жительница, проводя по многу месяцев в тверской глуши, в имении её свекрови, Анны Ивановны Гумилёвой. Об «огромном влиянии Слепнёва» на её творчество она потом вспоминала не один раз. Русский народный язык был ей знаком не понаслышке. Поэтому, готовясь к встрече с Есениным, она написала такое стихотворение:
За узором дымных стёкол
Хвойный лес под снегом бел.
Отчего мой ясный сокол
Не простившись улетел?
Говорят, что ты колдун.
Стал мне узок с нашей встречи
Во сто раз длинней.
Чем тогда, когда я просто
Шла бродить по ней.
В автографе (единственном!) дата отсутствует. Не вызывает, пожалуй, споров лишь то обстоятельство, что стихотворение написано ДО встречи с Есениным, а не после её. Когда у самого Есенина в его поэтическом лексиконе ещё никаких «шушунов» не было. Но он, цепкий, это словечко запомнил («А, наше, родное, рязанское»), запомнил и всё стихотворение (довольно рискованное по содержанию) наизусть.
И только через 10 лет после этой памятной встречи сам Есенин написал стихи, в которых употребил ахматовские образы.
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.
И в другом стихотворении, тоже посвящённом матери, «Заря окликает другую…» (1925) Есенин опять использовал (творчески использовал!) когда-то «подсказанные» ему Ахматовой рифмы:
Потом ты идёшь до погоста
И, в камень уставясь в упор,
Вздыхаешь так нежно и просто
За братьев моих и сестёр.
Собственно говоря, этот небольшой текстологический этюд — только вступление к большой теме творческих литературных связей Ахматовой и Есенина.
АННА АХМАТОВА И СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
 В ахматоведении, с лёгкой руки биографов Анны Ахматовой (Лукницкий, Чуковская), утвердилась легенда о том, что, якобы, Ахматова скептически относилась к Сергею Есенину как к поэту.
В ахматоведении, с лёгкой руки биографов Анны Ахматовой (Лукницкий, Чуковская), утвердилась легенда о том, что, якобы, Ахматова скептически относилась к Сергею Есенину как к поэту.
Но тут наша вина общая: как часто, не давая себе труда ВЧИТЫВАТЬСЯ в стихи, мы предпочитаем верить случайным высказываниям, на лету подхватываемым его биографами!
Анна Ахматова — что греха таить — бывала нередко и пристрастной, и несправедливой, да и разным людям нередко говорила не то, что думала, а то, что те хотели от неё слышать. И, бывало, даже под сурдинку разогревала страсти, подыгрывая развесившей уши собеседнице. Свидетельством тому служат многие записи Лидии Чуковской в её «Записках». Достаточно привести одну:
Мы сели на скамеечку, залитую солнцем. Перед нами — две берёзы, и белые стволы освещены так ярко, что больно смотреть.
— Вы вчера с неодобрением отозвались о Есенине, — сказала мне А.А. — А Осьмёркин его любит. Он огорчился. Нет, я этого не понимаю. Я только что перечла. Очень плохо, очень однообразно, и напомнило мне нэповскую квартиру: ещё висят иконы, но уже тесно, и кто-то пьёт и изливает свои чувства в присутствии посторонних.
Да, вы правы: всё время — последняя пьяная правда, всё переливается через край, хотя и переливаться-то, собственно, нечему. Тема одна-единственная — вот и у Броунинга была одна тема, но он ею виртуозно владел, а тут — какая же виртуозность? Впрочем, когда я читаю другие стихи, я думаю, что к Есенину несправедлива. У них, бедных, и одной темы нет».
Содержание записи далеко не однозначно. Во-первых, не надо забывать, что «Записки» Л. К. Чуковской — отнюдь не просто дневники. Это публицистика, и притом публицистика тенденциозная.
Ещё раз внимательно перечитаем ахматовскую характеристику в ответ на критику Есенина Чуковской: «Да, вы правы: всё время — пьяная последняя правда».
Заметим, что Ахматова сравнивает Есенина не с кем-нибудь, а с одним из великих английских поэтов конца девятнадцатого века Робертом Браунингом, который был «страстным поклонником гуманистических идей: вера в человека, в его изначальную склонность к добру — источник оптимизма Браунинга». А самое главное — какая это «одна-единственная тема» имеется в виду? И у Есенина, и у Браунинга, и у самой Ахматовой – действительно, была «одна, но пламенная страсть», — тема своего Отечества, у Браунинга — тема Англии, у Есенина и Ахматовой — тема России. Негативный оттенок окончательно снимается последними словами Ахматовой: «Впрочем, когда я читаю другие стихи, я думаю, что я к Есенину несправедлива. У них (? — М.К.), бедных (. — М.К.) и одной темы нет».
Анна Ахматова считала чуть ли не главным признаком всякого великого поэта — дар предвидения: сама она обладала им в избытке. Но и у Есенина этот дар присутствовал, и только теперь, внимательно перечитывая отдельные его произведения («Страну негодяев», например), мы это начинаем понимать.
Видимо, Ахматова в конце жизни испытывала нечто вроде неловкости оттого, что не сумела, не решилась рассказать о Есенине главное, а не только те колкости, которые с превеликой готовностью записывала за ней Лидия Чуковская. Ахматова не поделилась со своими собеседниками более глубокими чувствами, котрые роднили её с великим национальным поэтом. А доверить эти чувства бумаге было совсем не так просто, — сил оставалось всё меньше, а собственная «канцелярия» всё разрасталась. С большой долей уверенности можно сказать, что если бы не упорство и настойчивость А. П. Ломана, почти заставившего Ахматову продиктовать её воспоминания о Есенине, всей правды мы бы так никогда бы и не узнали.
Александр Петрович Ломан (1909 — 1975) не был профессиональным литературоведом, но обладал многими дарованиями: всю жизнь переводил, вёл педагогическую работу в области физики. А кроме того он был одним из «последних царскосёлов», что повышало степень ахматовской доверительности, и бескорыстно любил Есенина. Им написаны о Есенине десятки статей, составлены библиографические указатели, альбомы. Один из лучших есенинских сборников — «Словесных рек кипение и шорох…» тоже был составлен при самом непосредственном участии А. П. Ломана. Проводя в течение многих лет, наряду с активной педагогической деятельностью, работу по изучению есенинского наследия, А. П. Ломан, однако, даже не состоял в штате сотрудников Пушкинского Дома, на страницах печатных изданий которого он (нередко в соавторстве с Н. И. Хомчук) помещал свои есенинские штудии. Может быть, поэтому архив Ломана не сочли нужным сохранить, и многие бесценные документы оказались безвозвратно утраченными.
Один из экземпляров машинописи книги «Встречи и расставания», куда вошла и глава «Анна Ахматова о Сергее Есенине», был подарен Александром Петровичем 29.04.1971 года своему другу, тоже страстному собирателю всего относящегося к Есенину, И. А. Синеокому. Копией этого экземпляра (без вставленных фраз на французском языке) пришлось пользоваться при подготовке данной рукописи к печати. Автографа обнаружить пока что не удалось — возможно, он сохранился у кого-нибудь из есениноведов, — буду признателен за дополнения и поправки!
АННА АХМАТОВА О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ
Нет, это не мемуарное эссе и, более того, это не написано Анной Ахматовой и всё же принадлежит ей. Вот как это было:
Декабрь 64-го. Ещё свежи впечатления от поездки в Италию. Премия «Этна Таормина». И, собственно, вначале рассказ об этой поездке. А ещё о неоакмеизме в Италии, Франции, в новой поэзии. «Акме» — высшая ступень, нео» — новый. Новая высшая ступень поэзии в её ощущении мира — зримом, вещном, живом, многоцветном, многоплановом, в филигранном языке, бриллиантовом его блеске, в ощущении жизни, и не только ощущении, но и в вплавлении поэзии в жизнь, в эпоху, в события в их смене и окраске.
Потом экскурс в 20-е годы. Соляной Городок. Студия Ходотова. Дом литераторов. И там, и там чтение стихов и споры. В те годы много спорили. Чтобы напомнить —
Мерный в море плеск —
— Поэтом не стали?
Поэтесса рассматривала портрет Сергея Есенина работы акмеиста Цеха поэтов Владимира Юнгера. Всплыл год 15-й.
Категорический отказ писать воспоминания. На столике в этой комнате, будуаре и рабочем кабинете сразу, на улице Ленина Петроградской стороны, наброски переводов. Они ждут. Их ждут. Ждёт и «итоговая» книга.
Остаётся рассказ. Разрешено записывать. Это уже хорошо! Весна 65-го. Прослушаны записи. Одобрены. Разрешено из просмотренного опубликовать кусочки. «Нева», июньский номер журнала (Отрывки воспоминаний о Есенине были опубликованы при жизни Ахматовой в журнале «Нева». 1965. № 6 — М.К.)
— Почему так мало?
Осень 65-го. Фотокопия рождественского номера «Биржевых ведомостей». Томик стихов Есенина. Год 15-й ожил.
— Нет, нет. Эти «Воспоминания» я только прочту. Они, пожалуй, не нужны в «Беге времени»
Тот август, как жёлтое пламя,
Пробившееся сквозь дым,
Тот август поднялся над нами,
Как огненный серафим.
Из тихой Корельской земли
Мы двое, воин и дева,
Холодным утром пришли.
Стал город пышных смотров,
Слепило глаза прохожих
Сверканье пик и штыков.
На Троицком гулком мосту.
И липы ещё зеленели
В таинственном Летнем саду.
Кто солнце на землю низвёл?
Казался летящей птицей
В штандарте чёрный орёл.
Мои великие дни,
Теперь ты наши печали
И радость одна храни!»
Хозяйке усадьбы своей,
А ветер восточный славил
Ковыли приволжских степей.
(Действительно, в «итоговую книгу» Ахматовой «Бег времени» это стихотворение не вошло. Впервые оно было напечатано в газете «Биржевые ведомости», 1915, 20-го декабря, утренний выпуск. под заглавием «Воспоминания». Ахматова читала это стихотворение Ломану по тексту газеты. В книге «Anno Domini» (1922) — другая редакция, с иным порядком строф — М.К.)
Потом просматривались публикации в «Биржевых ведомостях». Отчёркивались строки и строфы. Два-три слова о каждой.
23 февраля 66-го. В этот вечер рассказ был закончен. Сомнение, — а нужно ли говорить о «встречах и расставаниях»? Впрочем, вспоминать — удел жизни, равный веку. Нам в послужной список год за два. Мы двух эпох свидетели, на границе которых Октябрь 17-го, ускоривший бег времени.
Это Анна Ахматова написала в 57-м:
Умолк вчера неповторимый голос,
И нас покинул собеседник рощ.
Он превратился в жизнь дающий колос
Или в тончайший, им воспетый дождь.
И все цветы, что только есть на свете,
Навстречу этой смерти расцвели.
Но сразу стало тихо на планете,
Носящей имя скромное… Земли.
Это и о Сергее Есенине.
Но, показывая фотографии, молодо и задорно:
— Я была полпредом нашей новой поэзии!
Потом просмотр, или, вернее, прослушивание записей. Но вечер короткий — завтра в Москву.
— Всё верно, и всё же вот вернусь и просмотрю ещё раз Ваши записи. Да, сама бы я не собралась написать об этом.
Но «просмотреть ещё раз» было не суждено. Бег времени оборвался.
Ушёл ПОЭТ — а это всегда катастрофа. Не знал я, да и не мог знать, насколько ещё было много жизни и поэтического потенциала высокого напряжения, не знал, что тот вечер последний.
Анна Ахматова ушла навсегда, до последнего мгновения оставаясь бойцом боевой советской поэзии.
Не знал я, что через несколько дней буду стоять в Комарове перед её последним пристанищем, и только сознание, что её поэзия с нами, смягчает боль утраты. ЕЁ поэзия с городом на Неве:
Разлучение наше мнимо:
Я с тобою не разлучима,
Тень моя на стенах твоих.
Ещё через неделю. Поезд из Москвы в Ленинград. На руках бесценный груз для вечного хранения в Пушкинском Доме. Гипсовый слепок, сохранивший и в смерти одухотворённое лицо. И от пряди волос, захваченной гипсом, груз стопудовый.
И остались записанными ненаписанные воспоминания о «Встречах и расставаниях».
И первая — как бы вчерашний день.
В тревожные дни первой мировой войны я, живя в Царском Селе, редко бывала в Петрограде, и, право, меня не очень волновали «мировые события», слишком было много личного…
Я жила в зачаровавшем меня мире поэзии. Писалось легко, хоть сердце часто было тревожным. Спасение от этих тревог находила в непрерывной песне о любви. Было уже прожито четверть века, и я говорила о себе — «старуха», но разве сердцу прикажешь молчать. Увлечена была акмеизмом, а это значит, что каждый поэтический образ у меня должен быть реально ощутимым, ясным, а язык кристально чист, герой чуть-чуть выше других и, может быть, чуть-чуть над другими, он совершенно реальный и в то же время не такой, которым можно любоваться и идти за ним и, как он, минуя суету сует.
 Вот сейчас, глядя на этот портрет (имеется в виду портрет Сергея Есенина работы Владимира Юнгера (1915). Воспроизведён в журнале «Нева». 1965. № 6 — М.К.), я невольно вспоминаю те, теперь уже далёкие времена. Именно ТАКИМ приезжал ЕСЕНИН ко мне в Царское Село в рождественские дни 1915 года. Видимо, это было на второй или третий день Рождества, потому что он привёз с собой рождественский номер «Биржевых ведомостей».
Вот сейчас, глядя на этот портрет (имеется в виду портрет Сергея Есенина работы Владимира Юнгера (1915). Воспроизведён в журнале «Нева». 1965. № 6 — М.К.), я невольно вспоминаю те, теперь уже далёкие времена. Именно ТАКИМ приезжал ЕСЕНИН ко мне в Царское Село в рождественские дни 1915 года. Видимо, это было на второй или третий день Рождества, потому что он привёз с собой рождественский номер «Биржевых ведомостей».
Немного застенчивый, беленький, кудрявый, голубоглазый и донельзя наивный, Есенин весь сиял, показывая газету. Я сначала не понимала, чем было вызвано это его «сияние». Помог понять, сам не очень мною понятый, его «вечный спутник» Клюев.
— Как же, высокочтимая Анна Андреевна, — расплываясь в улыбку и топорща моржовые усы, почему-то потупив глазки, проворковал, да, проворковал сей полудьяк, — мой Серёженька здесь со всеми знатными пропечатан, да и я удостоился.
Я невольно заглянула в газету. Действительно, чуть ли не вся наша петроградская «знать», как изволил окрестить широко тогда известных поэтов и писателей Клюев, была представлена в рождественском номере газеты — Леонид Андреев, Ауслендер, Белый, Блок, Брюсов, Бунин, Волошин, Гиппиус, Мережковский, Ремизов, Скиталец, Сологуб, Трепов, Теффи, Шагинян, Щепкина-Куперник, и Есенин, и Клюев. Наш милейший старик Иероним Иеронимович (Ясинский — Прим. А. П. Ломана) умудрился в один номер газеты, как в Ноев ковчег, собрать всех, даже совершенно несовместимых, не позабыв и себя.
Я не попала в эту «антологию» видимо, потому что за несколько дней до этого он опубликовал в той же газете моё «Воспоминание» — «То август как жёлтое пламя…» Но и без меня получился довольно пёстрый букет. Недавно, разыскивая забытые публикации, я просмотрела и эту газету и только сейчас, пятьдесят лет спустя, сделала открытие — в рождественском номере нет ничего рождественского; потом, шла война, а на литературном Парнасе столицы мир и спокойствие, и только нервный Блок туманно горевал «Над Варшавой» да Сологуб вещал:
Непросветны и могучи,
Над твоею головою
Пронеслись, отчизна, тучи..
Враг грозит нам бурей снова,
Мы же вспомним дни былые,
Как могуча и сурова
Ополчилась ты Россия.
Вместо ёлочной восковой свечи
Бродят белые прожектора лучи,
Мерцают сизые стальные мечи,
Вместо ёлочной восковой свечи.
Зачем-то паясничал Бунин, изображая «Прокажённого»:
Пойду бродить из зала в зал,
Хрустя осколками зеркал,
Копая мусорные груды.
Как падишах, войду в сераль,
Где смешан розовый миндаль
С кровавым деревом Иуды.
Очень мила в своих «Утешениях» Мариэтта Шагинян:
Спят, как детёныши, в нежном цветке семена.
Тьмою зачаты, как света взлелеяны ею.
Держит их чаша, но время придёт и она
Тихо раскроется, сонное семя развея.
Что ж, зацветая, боится священной утраты?
Ты, мой цветок, опечаленному возвести:
Счастлив берущий — отдавший блаженен двукратно.
Поучает «Как жить» Иван Рукавишников:
Царство творчества загадка,
Слёзы — грёзы бытия,
Так живи, чтоб в меру гладко,
Скорбно — бурно, горько — сладко,
Протекала жизнь твоя.
Участь людей беспокоит, как всегда, Щепкину-Куперник, и она находит рецепт:
Нам жить тяжело, нам дышать тяжело,
Мы молим о правде, тоскуем о чуде…
Ужель победит непроглядное зло?
О, бедные люди, усталые люди!
Как воздух целебный прекрасного юга —
Сияет забытый, великий совет:
Любите друг друга, любите друг друга!
Я хорошо представляла себе, как трудно было юноше разобраться в этом смешении имён и каких-то идей, ведь ему было всего двадцать лет и он был, или только казался мне, страшно открытым.
Но я чувствовала, что ему очень хочется прочесть его стихи и попросила прочитать. Он называл меня Анной Андреевной, а как же мне его называть? Так хотелось просто назвать — Серёжа, но это противоречило бы всем правилам неписанного этикета, которым мы отгораживали себя от тех, кто не принадлежал к нашей «вере», вере акмеистов, и я упрямо называла его Сергей Александрович.
И он начал читать, держа в одной руке газету, другой жестикулируя, но, видимо, от смущения, жесты были угловаты.
Край родной! Поля, как святцы,
Рощи в венчиках иконных,
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.
Резеда и риза кашки
И вызванивают в чётки
Ивы — кроткие монашки…
(Ахматова цитирует раннюю редакцию стихотворения (Биржевые ведомости. 1915. 25 декабря. № 15290 — М.К.)
Читал он великолепно, хоть и немного громко для моей небольшой комнаты. Те слова, которые, он считал, имеют особое значение, растягивал, и они действительно выделялись.
Я просила ещё читать, и он читал, а Клюев смотрел на него просто влюблёнными глазами, чему-то ухмыляясь. Читая, Есенин был ещё очаровательнее. Иногда он прямо смотрел мне в глаза, и в эти мгновения я чувствовала, что он действительно «всё встречает, всё приемлет», одно тревожило, и эту тревогу за него я так и сохранила, пока он был с нами, тревожила последняя строка «Я пришёл на эту землю, чтоб скорей её покинуть…»
На этом портрете Володя Юнгер удивительно точно передал выражение его глаз. Да, таким я его увидела в первый раз.
Я чувствовала его искренность и верила ему, когда он прочёл:
Тебе одной плету венок,
Цветами сыплю стёжку серую.
О Русь, покойный уголок,
Тебя люблю, тебе и верую.
Постепенно скованность его уходила, и он доверчиво уже готов был спорить. Оказывается, он знал мои стихи и, прочитав наизусть несколько отрывков, сказал, что ему нравится — уж очень красивые и «о любви много», только жаль, что много нерусских слов. Это было очень наивно, но откровенно. Я парировала «удар» и сказала, что в его стихах много таких русских слов, которые разве что на Рязанщине знают. На мою реплику он не обратил внимания, но больше о моих стихах не стал говорить, зато обрушился на стихотворение Поликсены Соловьёвой «Не узнали», оно заканчивалось так:
Час поздний. Вдруг звякнул звонок. Поскорей
Открыли и видят: стоит у дверей
Ребёнок. Пальтишко в заплатках на нём
И рваная шапка. — «Впустите к вам в дом,
На ёлку пришёл я» — «Ишь смелый какой!»
«Всё роздано… Кто он?» — «Бродяжка, чужой!»
«Иди себе с Богом, другие дадут».
Захлопнули двери и к ёлке идут.
Нет ёлки и комната жутко пуста…
Они не узнали младенца-Христа.
И чтобы показать, как он сказал, «ошибку поэтессы», тут же прочитал своё стихотворение:
Шёл Господь пытать людей в любови,
Выходил он нищим на кулижку.
Старый дед на пне сухом в дуброве
Жамкал дёснами зачерствелую пышку.
На тропинке, с клюшкою железной,
И подумал: «Вишь, какой убогий, —
Знать, от голода качается, болезный.»
Видно, мол, сердца их не разбудишь…
И сказал старик, протягивая руку:
«На, пожуй… маленько крепче будешь».
И Есенин, прочитав, теперь уже твёрдо сказал, что в деревне крестьянин добрее, вот ведь старик «жамкал дёснами зачерствелую пышку», но, увидев нищего, не зная, кто он, поделился. И здесь дело не в том, что это «шёл Господь пытать людей в любови», а в том, что чувства любви и сострадания присущи русскому мужику, он помогает, совершенно не рассчитывая на то, что его похвалят и отблагодарят. Возможно, Есенин был прав.
Мне его стихи нравились, хотя у нас были разные объекты любви — у него преобладала любовь к далёкой для меня его родине, и слова он находил другие, часто уж слишком рязанские и, может быть, поэтому я его в те годы всерьёз не воспринимала.
Есенин и Клюев были для меня (…французское выражение отсутствует в машинописи — М.К.) и весь склад их мышления мне тогда был чужд.
После Революции мы несколько раз выступали вместе на концертах и даже ездили за город, в Стрельну, в какой-то клуб, но это было всё уже в 1924 году. Кроме связанных с проведением концерта неизбежных разговоров, мы редко обменивались парой фраз. Но имя его становилось всё более и более популярным. До меня только доходили слухи, что после поездки в Европу он очень изменился и не во всём в лучшую сторону. Меня поражала вечная его неустроенность. Совсем не понимала я его брак с Айседорой Дункан, хотя и преклонялась перед огромным её талантом. Не могла простить ему и невоздержанность к вину.
Осенью 1924 года он неожиданно появился у меня. Я в то время жила в Фонтанном доме. Он зашёл со своими друзьями — ленинградскими имажинистами. От него пахло вином. Одет был по тем временам отлично — лакированные ботинки и прекрасный костюм, видимо, заграничный. Внешний блеск, а вот лицо его болезненно, с каким-то землистым оттенком. Здороваясь, он поцеловал руку, что раньше никогда не делал. Да, он изменился. Нарочитой развязностью он скрывал смущение от того, что вдруг оказался рядом со мной. Мне всегда казалось, что Есенин относится ко мне и ко всем тем, кто меня окружал, как к своей полярности и в силу этой полярности возможность взаимопонимания исключал.
Мне же он становился понятнее. Его широко печатали, его стихи я встречала почти во всех толстых журналах и больше всего в «Красной нови». О нём много писали, к сожалению, и много такого, что тяжело было читать — его пытались учить жить и работать, и это звучало так, как будто было только два пути — (В машинописи пропущена фраза на французском языке — М.К.), а он явно искал свой путь — третий — и пел о жизни на шестой части земли с названьем кратким «Русь».
Встреча наша была какой-то нелепостью, пока он не начал читать стихи. Теперь он уже не был тем наивным юнцом той далёкой встречи. И я верила ему, когда он читал:
Годы молодые с забубенной славой,
Отравил я сам вас горькою отравой.
Я не знаю: мой конец близок ли, далёк ли,
Были синие глаза, да теперь поблёкли.
Я верила, что он действительно «возвращается на родину», и при встрече у него
…полилась печальная беседа
Слезами тёплыми на пыльные цветы.
И с Москвой кабацкой, наделавшей шума, покончено. Да, у него «так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок», но теперь в его стихи пришло что-то новое, просветлённое, и сколько ещё не тронутой любви я почувствовала, когда он прочёл посвящённое Августе Миклашевской —
Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.
Знаешь ты одинокий рассвет,
Знаешь холод осени синий.
Слишком многое телу надо.
Что ж так имя твоё звенит
Словно августовская прохлада?
Для меня дорого имя Пушкина. С большим интересом я слушала посвящённые ему строки:
Мечтая о великом даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с тобой…
И говорю в ответ тебе:
— Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.
Прочитав, Есенин неожиданно спросил:
— Правда ли, что в этом Фонтанном доме Оресту Кипренскому позировал Пушкин?
Потом с усмешкой сказал, что пока не находится художник, который написал бы с него такой же льстивый портрет.
Оборвав нить разговора, он стал расспрашивать о судьбе Параши Жемчуговой, крепостной, блестящей актрисе и певице театра Шереметева, бывшего владельца этого дома, хотя, видимо, знал её судьбу.
— Актриса-крестьянка стала женой графа. А ведь умерла, когда ей было немного больше тридцати лет. Это всё город.
Парадоксы судьбы. Через год я узнала, что поэт-крестьянин стал мужем графини. Есенин женился на внучке Толстого.
А тогда я внимательно слушала его. В нём действительно было много нового. Он рассказывал о своей поездке за рубеж. Из рассказа стало особенно ясно, насколько он русский. Его не вырвешь из полей и рощ… Не вырвешь и из новой России, и мне кажется, потому, что он, как и все мы, увидел, что
Новый свет горит
Другого поколения у хижин.
А ведь увидеть — значит понять. А это определяло путь, по которому идти.
И в этом был новый для меня Есенин. Есенин без бравады. Пугало в нём другое — нотки строк «я пришёл на эту землю, чтоб скорей её покинуть» усиливались:
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.
Он уже собирался уходить, но неожиданно заявил, что самое важное и не прочёл. Вернулся в комнату и, не снимая пальто, прочёл это «самое важное»:
Отговорила роща золотая
Берёзовым, весёлым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
Пройдёт, зайдёт и вновь оставит дом.
Так я роняю грустные слова.
Сгребёт их все в один ненужный ком,
Скажите так… что роща золотая
Отговорила милым языком.
Прочёл, заторопился и, сказав своим спутникам, так и промолчавшим весь вечер, «Пошли!» — ушёл.
Только теперь я поняла его, поняла и приняла всерьёз и надолго Есенина — певца «Руси — малинового поля», «голубой Руси», которую он, может быть, выдумывал. Кто знает?
На столике он «забыл» свою книгу «Пугачёв». Я листала её, думая, что найду хоть что-нибудь, написанное в ней для меня. Но ничего не было, и только на одной из страниц подчёркнуты строки:
О смешной, о смешной, о смешной Емельян!
Ты всё такой же сумасбродный, слепой и вкрадчивый;
Расплескалась удаль твоя по полям,
Не вскипеть тебе больше ни в какой азиатчине.
Но Есенин-Емельян вскипел. 1925 год был годом его несомненного взлёта. Новая Россия в его стихах и поэмах становилась зримой, он становился её певцом, трезвым и ясным, не теряя романтической приподнятости.
И неожиданная катастрофа. Ушёл поэт, а это всегда катастрофа. После смерти Блока, ошеломившей меня, это была вторая утрата.
(Поразительно, что в списке утрат Ахматова не сочла нужным упомянуть имени Гумилёва — М.К.).
Пять лет прошло с тех пор, а имена двух поэтов, таких разных и таких схожих обнажённостью чувств, стали ещё ближе. Вот почему я решил опубликовать эти записи.
Март 1966 — март 1971
Во-первых, поскольку Анна Андреевна не успела их «пересмотреть ещё раз», авторизовать и подготовить к печати, то у читателей могут возникнуть некоторые сомнения и вопросы.
Не искажены ли мысли Ахматовой в записи, — ведь записывал за ней человек не нейтральный, а страстно влюблённый в Есенина. Не могло ли это обстоятельство наложить некоторый отпечаток благостности, так не свойственной, в общем-то, Ахматовой?
Думается, всё же, что А. П. Ломан был точен, слушая и записывая ахматовскую речь. В этом убеждает сравнение его записей с подлинными словами самой Ахматовой в её рабочей тетради «Лермонтов». Важно, что запись эта сделана почти одновременно с её диктовками Ломану, но сделана исключительно для себя.
18 февраля 1966 года, в последний день её пребывания в Боткинской больнице в Москве:
Вчера по радио слышу стихи с музыкой. Очень архаично, славянизмы, высокий строй. Кто это? Державин, Батюшков? — нет, через минуту выясняется, что это просто Есенин.
Это меня немного смутило.
К Есенину я всегда относилась довольно прохладно.
В чём же дело? — неужели то, что мы сейчас слышим и читаем, настолько хуже, что Есенин кажется высоким поэтом?? А то, что мы слышим и читаем, сделано часто щегольски, всегда умело, но с неизбежным привкусом какого-то маргаринно-сахаринного сюсюка. Это неизбежная часть программы».
С Анной Ахматовой Есенин ощущал глубинное родство при поверхностной разности (она — царскоселка, хранительница и ревнительница пушкинских традиций в поэзии, он — поэт «от сохи», продолжатель традиций, но, одновременно, их обновитель). При встрече эта разность двух поэтов вылилась в спор о диалектных и иностранных словах в поэзии. Ахматову это интересовало не меньше, чем Есенина. Недаром она и через 50 лет прекрасно помнила все детали этого «филологического диспута» (например, интерпретацию слова «чётки» в её стихах и в стихах Есенина). Конечно, Ахматова воспитывалась совершенно в иной среде, нежели Есенин, и её Муза чуждалась диалектных слов, но всё же именно в эти годы она всё чаще слышала простонародную лексику, живя в окружении тверских крестьян в имении своей свекрови Слепнёво. Кто знает, возможно после встречи с рязанским пареньком, которого ей хотелось назвать просто Серёжей, родилось стихотворение, записанное в один приём. без исправлений. Ахматова никогда не пыталась его опубликовать. Заинтересованность в творческой манере Есенина в этом стихотворении явно присутствует:
За узором дымных стёкол
Хвойный лес под снегом бел.
Отчего мой ясный сокол,
Не простившись, улетел?
Говорят, что ты колдун.
Стал мне узок с нашей встречи
Во сто раз длинней,
Чем тогда, когда я просто
Шла бродить по ней.
Для Сергея Есенина встреча с Анной Ахматовой, видимо, и творчески не прошла бесследно. Тут надо отметить, что тот круг поэтов, к которому был близок Есенин именно в 1915-1916 годах, — это поэтическая молодёжь северной столицы, разделяющая поэтические воззрения акмеистов. Влияние Городецкого, Нарбута, Кузмина да и самой Ахматовой можно без труда обнаружить в стихах друзей Есенина тех лет — Рюрика Ивнева, Владимира Чернявского, Леонида Каннегисера, Михаила Струве. Да и сам Есенин, будучи исключительно переимчивым мастером, писал в эти годы не только стихи, насыщенные рязанской лексикой, но и такие, которые вполне укладывались в акмеистический «канон». Вот одно из таких стихотворений:
День ушёл, убавилась черта,
Я опять подвинулся к уходу.
Лёгким взмахом белого перста
Тайны лет я разрезаю воду.
Накипи холодной бьётся пена,
И кладёт печать немого плена
Складку новую у сморщенной губы.
И себе, и жизнь кому велела.
Где-то в поле чистом у межи,
Оторвал я тень свою у тела.
Взяв мои изогнутые плечи.
Где-нибудь она теперь далече
И другого нежно обняла.
Про меня она совсем забыла
И, вперившись в призрачную тьму,
Складки губ и рта переменила.
Что, как эхо. бродитза горами.
Я целую синими губами
Чёрной тенью тиснутый портрет.
По-видимому, Ахматовой это стихотворение запомнилось надолго, если судить по тому, что в её поздних стихах появляется образ, явно заимствованный у Есенина:
Оторвавшиеся от тел.
Образ Анны Ахматовой, как мне кажется, оживает в стихотворении Есенина, написанном полтора года спустя после царскосельской их встречи, в июне 1916 года в Константинове:
В зелёной церкви за горой,
Где вербы чётки уронили,
Я поминаю просфорой
Младой весны младые были.
Передо мной стоишь незримо,
Шелка опущенных ресниц
Колышут крылья херувима.
Твоей застывшею порою,
Всё тот же розовый платок
Застёгнут смуглою рукою.
Твои надломленные плечи
О том, кто за морем живёт
И кто от родины далече.
Перед пристойным ликом жизни.
О, помолись из меня,
За бесприютного в отчизне!
Даже странно, что исследователями творчества Есенина это загадочное стихотворение оставлено без внимания.
Между тем, если сопоставить его с фактом полуторагодичной встречи поэта с Анной Ахматовой, многое проясняется. В память этой встречи снова появляются и «чётки»; Это слово становится некой опознавательной метой, как слово, одинаково присущее стихам Ахматовой и Есенина, но по-разному звучащее в контекстах их творчества. На сей раз «чётки» уронили вербы в церкви — очевидно, речь идёт о Вербном Воскресении. В церкви, куда зашёл поэт, ему (возможно, по ассоциативной связи с какой-нибудь иконой) вспомнилась та, чей облик так напоминал нестеровскую «Христову невесту», чей образ ещё не изгладился из его памяти за эти полтора года (впрочем, лично я уверен, что у них были и ещё встречи, о которых оба предпочли умолчать. А иначе как объяснить тот факт, откуда у Есенина столь достоверная информация о личной жизни Анны Ахматовой, о её романе с Борисом Анрепом, — ведь это нигде не афишировалось?
Строки «Всё тот же розовый платок Застёгнут смуглою рукою» звучат почти портретно. Но возможно, это не только воспоминание о той женщине, что привечала его в Царском Селе, кутаясь в розовый платок, но и описание портрета Ахматовой, на котором этот розовый платок превратился в существенную психологическую деталь облика поэтессы. Ведь портрет Ахматовой работы Ольги Людвиговны Делла Вос Кардовской был как раз в 1916 году издан как художественная открытка «в пользу Общины Св. Евгении», и Есенин мог эту открытку приобрести и вдоволь ею любоваться (впрочем, нельзя исключить и тот факт, что Ахматова могла САМА подарить ему эту открытку, встретив его в это время в Царском и сопроводив своим биографическим комментарием.
«Смуглая рука» — едва ли не прямая цитата из Ахматовой: «А недописанную мной страницу Божественно-спокойна и легка, Допишет Музы смуглая рука» (1914). Оттолкнувшись от живописной конкретности, в следующих двух строках портрет обретает психологическую глубину, причём сходство с духовным обликом Ахматовой всё нарастает: «Всё тот же вздох упруго жмёт Твои надломленные плечи». Тоска героини — «О том, кто за морем живёт И кто от родины далече». Это едва ли не реплика на стихотворение Ахматовой «Небо мелкий дождик сеет…», очень близкое Есенину по духу, где есть такие строки:
Нынче другу возвратиться
Из-за моря — крайний срок.
Неизвестно, был ли Есенин конфидентом Ахматовой, знал ли он о её далеко не простых отношениях с Борисом Анрепом, которому посвящены эти строки, но стихи Ахматовой он наверняка воспринимал как её исповедь, откровенный рассказ о своей нелёгкой женской жизни, и для него они были, в какой-то мере, продолжением и развитием той, первой встречи. Возможно, разочаровавшись в Ахматовой как в женщине, он продолжал восхищаться ею как поэтом. Во всяком случае, Есенину нельзя отказать в точности и убедительности психологического рисунка, делающего это стихотворение одним из лучших поэтических портретов Ахматовой. Концовка стихотворения ещё более убеждает в том, что оно — вовсе не любовное (впрочем, Есенин в то время ещё почти не писал любовных стихов женщинам.). В концовке слышится ахматовская интонация, само выражение — «память дня» подтверждает мою мысль о том, что это — воспоминание о дне (днях?) встречи (встреч?) со своей духовной сестрой. Память о дне этой встречи не уступает позиций перед «Бегом времени» (название последней книги Ахматовой) (а, говоря есенинским языком, «ПЕРЕД ПРИСТОЙНЫМ ЛИКОМ ЖИЗНИ». Такие слова мог сказать только очень чистый поэт! Эта память, напротив, становится «всё тягуче»! Какая точность слова у Есенина! Его тянет туда, в ту «светло-синюю комнату» в Царском, где они не договорили о самом главном, но где Есенин ощутил духовную крепость той, чьи стихи были молитвами за всех «бесприютных в отчизне». Есенин очень точно понял «назначение поэта», недаром Ахматова откликнулась на этот призыв строкой из «Реквиема»:
А я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною…
Молиться и писать стихи для Ахматовой по сути своей один и тот же процесс, — тут она следует завету Вяземского («Любить. Молиться, Петь. Святое назначенье Души, тоскующей в изгнании своём»).
Диалоги Ахматовой и Есенина продолжались и в последующие годы. Образом трагического прошедшего (как казалось Есенину) урагана эпохи начинается его маленькая поэма «Русь советская»:
Тот ураган прошёл. Нас мало уцелело.
На перекличке дружбы многих нет.
Эти строки уложились в «сокровищнице памяти» Ахматовой и через много лет ожили парафразом в одном из её итоговых четверостиший:
Когда я называю по привычке
Моих друзей заветных имена,
Всегда на этой странной перекличке
Мне отвечает только тишина.
Есенинская образность присутствует и в стихотворении 1925 (?) года, посвящённом всё тому же Борису Анрепу. Оно начинается строкой «Я именем твоим не оскверняю уст…» и имеет два абсолютно равноправных варианта. В первой варианте Ахматова использует образы Волошина из его стихотворения «На дне преисподней», посвящённого памяти Блока и Гумилёва:
Тому прошло семь лет. Прославленный Октябрь
Как свечи на ветру, гасил людские жизни…
Но с этим вариантом успешно конкурирует другой, так сказать, «есенинский»:
Тому прошло семь лет. Прославленный Октябрь,
Как листья жёлтые, сметал людские жизни».
По-видимому, Ахматова не решилась отдать предпочтение какому-нибудь из вариантов, тем более, что при её жизни о публикации этого стихотворения нечего было и думать.
В воспоминаниях, продиктованных Ломану, Ахматова ни словом не обмолвилась о своём стихотворении, посвящённом памяти Есенина. Возможно, к этой теме она ещё хотела, но не успела вернуться. Мы тоже не можем пройти мимо этой темы.
Сквозь светлый образ юноши, влюблённого в родную землю, струится тревога. постоянного не покидавшая вещее сердце Анны Ахматовой. Как известно, она обладала проклятым даром Кассандры, «гибель накликала милым, И гибли один за другим». Действительно, стихотворение, в котором Ахматова проводила «в царство тени» своего ближайшего друга и наставника — Николая Владимировича Недоброво, написано в 1916 году, за три года до его смерти. То же можно сказать и о стихотворении «Не бывать тебе в живых…», написанном 16 августа 1921 года, до, а не после гибели Гумилёва.
Стихотворение, написанное, якобы, в апреле 1925 года (месяце, поминальном для Николая Гумилёва), оказалось невольным предсказанием страшной смерти Сергея Есенина, реальные обстоятельства которой были, надо полагать, Ахматовой известнее, чем нам.
Стихотворение, написанное в память о Гумилёве, на деле оказалось надгробным словом Сергею Есенину и навсегда обрело в её рукописях название «ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА»:
Там просто можно жизнь покинуть эту,
Бездумно и безбольно догореть.
Но не дано Российскому поэту
Такою светлой смертью умереть.
Небесные откроет рубежи,
Иль хриплый ужас лапою косматой
Из сердца, как из губки, выжмет жизнь.
В 1930-е годы, когда судьба Ахматовой висела буквально на волоске, она написала ещё одно стихотворение, посвящённое арестованному О.Э. Мандельштаму, в котором предсказала и ему и себе смертные дороги Гумилёва и Есенина, снова навек объединив их имена:
За Кремлёвским поводырём
Не брести нам, грешным. вдвоём.
Мы с тобой, конечно, пойдём
По Таганцевке, по Есенинке
Иль большим Маяковским путём.
Комментарии
Добавить комментарий
Комментарии, не имеющие прямого отношения к теме статьи, содержащие оскорбительные слова, ненормативную лексику или малейший намек на разжигание социальной, религиозной или национальной розни, а также просто бессмысленные, ПУБЛИКОВАТЬСЯ НЕ БУДУТ.