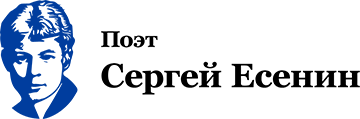Пороша стих есенина читать
24.01.2018Есенин микола читать
24.01.2018Дон-Аминадо. «Двенадцать» и лирика
И ПРИ 40 ГРАДУСАХ МОРОЗА ВОДРУЗИЛИ БЮСТ ИЛЬИЧА
Все мальчики на ять,
А чин у них такой,
Что нет им для прогулок,
Не этак и не так,
Без сахара, без чая,
А прямо натощак!
Ни коек, ни казарм.
Но кто живет без цели,
Так тот не командарм.
Пускай течет с мундиров
Ведь пренье командиров
Не прение сторон.
А ежели ты кляча
И жизнь твоя маразм,
И немощное тело
Не втиснуто в броню,
То плюнь на это дело,
Но эти, как из стали,
Проклятый этот век,
И шли без проволочки,
Покуда не дошли
До самой высшей точки,
До пупочки земли.
В детали не входя,
На этом самом пупе
А бюстик и портрет,
Чтоб щурился он снова
На пошлый этот свет,
Чтоб чувствовал кумиров
И подвиг командиров,
Он, в бурю и в грозу,
Возвысясь до Алтая,
РАЗВЕСЕЛЫЙ НЕГОДЯЙ ДОН-АМИНАДО
Автором стихотворения в заголовке поста является Дон-Аминадо, поэт, прозаик и мемуарист, в миру Аминадав Петрович (Пейсахович) Шполянский (1885(88?), Елисаветград Херсонской губ.-1957, Париж).

Как падают прогнившие стропила.
Окажется, что конные полки
Есть просто историческая сила.
Окажется, что красную звезду
Срывают тем же способом корявым,
Как в девятьсот осьмнадцатом году
Штандарт с короной и орлом двуглавым. (1926)
Точность его предвидения порою становится просто пугающей. Эти строки были написаны не в 1991-м., а в 1920 г. («Сказка про белого бычка»):
И волен надо всем преображеньем!
Но, чую, вновь от беловежских пущ
Пойдет начало с прежним продолженьем.
И вкруг оси опишет новый круг
История, бездарная, как бублик.
И вновь на линии Вапнярка — Кременчуг
Возникнет до семнадцати республик.
Воистину, был этот путь многотруден.
То русский мужик умирает под Плевной,
То к черту в болото увяжется Рудин.
Шалели и млели от всех мемуаров.
И три поколенья плохой папироской
Дымили у бедной стены Коммунаров.
Прослыв сумасшедшей, святой и кликушей,
Лежать в стороне от широкой дороги
Огромной, гниющей и косною тушей. (1920)
В смысле дали мировой
Власть идей непобедима:
От Дахау до Нарыма
Пересадки никакой. (1951)
Именно этой стороне таланта Дона-Аминадо хочется уделить особое внимание.

Забытую, далекую, иную,
Твое лицо, прильнувшее к окну,
И жизнь свою, и молодость былую?
Коричневые, голые деревья.
И полых вод особенная муть,
И радость птиц, меняющих кочевья.
И ком земли, из-под копыт летящий.
И этот темный глаз коренника,
Испуганный, и влажный, и косящий.
Запахло мятой, копотью и дымом.
Тем запахом, волнующим до слез,
Единственным, родным, неповторимым,
И пыльною, уездною сиренью,
Которой пахнет русская весна,
Приученная к позднему цветенью. (1929—1935)
И за ночь выпала роса.
И так пронзительно синели,
Сияли счастьем небеса,
Тогда на землю пролилось,
Наполнив соком, влагой вешней,
И пропитав ее насквозь,
От изобилья, от щедрот,
Казалось, мир в изнеможенье
С ума от счастия сойдет.
Зеленый сад и белый дом,
И взлет кисейной занавески
Над русским створчатым окном.
Веселый смех, качелей скрип.
И одуряющий и сладкий,
Неповторимый запах лип.
А под ногой скользит доска,
Ах, как легко, скажи лишь слово,
Взмахнуть и взвиться в облака.
Закатный день расплавил медь,
Поцеловать тебя неслышно,
И если надо, умереть.
И мгла, и свет, и явь, и сон.
И голубой, прозрачный воздух
Был тоже счатъем напоен.
И след тянулся от весла.
И жизнь была, как вечер мая,
И жизнь и молодость была.
И снова солнце в синеве,
И вновь весна, скрипят качели,
И чей-то бант лежит в траве. (1929)
Крепким ромом, цветом липы.
И пускай в трубе каминной
Раздаются вопли, всхлипы.
Пусть, как в лучших сочиненьях,
С плачем, с хохотом, с раскатом
Завывает все, что надо,
Что положено по штатам!
Пусть скрипят и гнутся сосны,
Вязы, тополи и буки.
И пускай из клавикордов
Чьи-то медленные руки
Извлекают старых вальсов
Лавой пунша или грога
И достань, откуда хочешь,
И чтоб он сверкал глазами,
Точно парой аметистов,
И чтоб он сопел, мерзавец,
Как у лучших беллетристов.
С бахромою и с кистями,
С пожелтевшими листами,
Выбирай мне из «Айвенго»
Только лучшие страницы
И читай их очень тихо,
Опустивши вниз ресницы.
Надо, в сущности ведь, мало.
Чтоб у ног его собака
Чтоб его поили грогом
До семнадцатого пота
И играли на роялях,
И читали Вальтер-Скотта,
И под шум ночного ливня
Чтоб ему приснилось снова
Из какой-то прежней жизни
Хоть одно живое слово.
Воду в ступе толокли.
Вкруг да около ходили,
Мимо главного прошли. (1938)
В толстых чужих словарях.
Август. Ущерб. Увяданье.
Милый, единственный прах.
Русское лето в России.
Запахи пыльной травы.
Небо какой-то старинной,
Темной, густой синевы.
Утро. Пастушья жалейка.
Поздний и горький волчец.
Эх, если б узкоколейка
Шла из Парижа в Елец. (1926)
Осень пахнет горьким тленом,
Милым прахом увяданья,
Легким запахом мимозы
В час последнего свиданья.
Душной мятой, паутиной
И осыпавшейся розой
Над неубранной куртиной.
Зимний полдень пахнет снегом,
Мерзлым яблоком, деревней
И мужицкою овчиной,
Пропотевшею и древней.
Крепким чаем, теплым паром,
Табаком, и гиацинтом,
И каминным перегаром.
Утро солнечного мая
Пахнет ландышем душистым
И, как ты, моя Наташа,
Чем-то легким, чем-то чистым,
Что растет в глухом овраге,
Этой смутною фиалкой,
Этой капелькою влаги,
На краю цветочной чаши,
Как дрожат порою слезы
На ресницах у Наташи.
Лето пахнет душным сеном,
Сливой темною и пыльной,
Бледной лилией болотной,
Тонкостанной и бессильной,
Тмином, маком, прелью сада
И вином, что только бродит
В сочных гроздьях винограда.
Лето пахнет лесом, смолью
И щекочущей и влажной
Голубой морскою солью,
Острым запахом иода
И волнующей и дальней
Дымной гарью парохода. (1928)
Воспоминания Дона-Аминадо «Поезд на третьем пути» читаем здесь .
- Добавить комментарий
- 28 комментариев
Android
Выбрать язык Текущая версия v.211.4