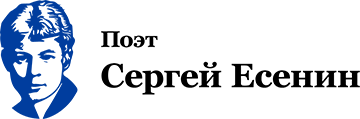Стих есенина восход
24.01.2018Стихи Лермонтов ТВОЙ
24.01.2018Есенин и имажинизм
Эстетическая программа русского имажинизма и есенинская теория поэтического образа. Идейно-творческая эволюция поэта. Тема города и деревни в его поэзии этих лет. Анализ произведений «Кобыльи корабли», «Сорокоуст», «Хулиган», «Исповедь хулигана». Есенин о роли своей поэзии в современной ему жизни. Лирическая драма «Пугачев» и ее значение в идейной эволюции поэта. Особенности поэтики Есенина этих лет.
Изложенная в «Ключах Марии» идейно-художественная программа Есенина создавала благоприятную почву для образования в советской литературе на национальной основе имажинистской группировки.
По характеру своего творчества ближе всего к имажинизму подошли Н. Клюев, С. Есенин, А. Белый. Именно в их поэзии первое место принадлежало тропу.
«Инония» была уже поэмой, в которой в полной мере воплотилась программа еще не оформленного к этому времени имажинизма. Не случайно Есенин говорил о себе: «Не знаю, зачем меня нужно с кем-нибудь спаривать: я сам по себе. Достаточно того, что я принадлежу к имажинистам. Многие думают, что я совсем не имажинист, но это неправда: с самых первых шагов самостоятельности я чутьем стремился к тому, что нашел более или менее осознанным в имажинизме» * .
* (И. Розанов. Мое знакомство с Есениным. В сб.: «Памяти Есенина». М., 1926, стр. 39-40.)
Но осознание себя в имажинизме совпало с разочарованием в Клюеве, а замышлявшаяся вместе с С. Клычковым литературная школа «аггелизм» не состоялась * . Таким образом, более естественная для русского имажинизма группировка Клюев — Есенин — Клычков не оформилась, и Есенин выступил в союзе с А. Мариенгофом и В. Шершеневичем, поэтами, далекими ему по духу творчества, которые воспринимались современниками, по свидетельству И. Розанова, как «поэты надуманные, как словесные клоуны».
* (И. Розанов. Мое знакомство с Есениным. В сб.: «Памяти Есенина». М., 1926, стр. 39-40.)
Между имажинистами и Есениным с самого начала не было поэтического родства. А. Мариенгофу, например, чужды были вдохновенные песни С. Есенина о природе, о Родине, о лесах и полях, о коровах и собаках. Его поэзия питалась отбросами городской жизни, ее задворками.
Есенинский имажинизм утверждал в поэзии органический образ как средство выражения поэтического мироощущения, средство изображения действительности. Есенин не отрывал этот образ от выражаемого в нем содержания, не рассматривал его как самоцель творчества.
Наоборот, В. Шершеневич и А. Мариенгоф освобождали образ от общественного содержания, видели в нем цель творчества. В брошюре «2×2=5» (1920) и в других статьях В. Шершеневич провозглашал «свободный образ» без связи его с целым и тем более без подчинения целому, образ-особняк объявлялся здесь самоцелью творчества, он призван был не выражать содержание, а подменить его в искусстве; пути развития поэтического слова Шершеневич видел «в поедании образом смысла», «победе его над смыслом», в «освобождении слова от содержания», в переходе к неграмматическим фразам и сломе грамматики. Каталог образов, освобожденных от смысла, грамматики, общественного содержания, — вот мечта Шершеневича.
В своих статьях он открыто проповедовал аполитичное, антиобщественное искусство. Взгляды Шершеневича были положены в основу декларации имажинистов, опубликованной в январе 1919 года в журнале «Сирена» (Воронеж) и в феврале в газете «Советская страна». «Нам смешно, — значилось в ней, — когда говорят о содержании искусства»; «Всякое содержание в художественном произведении так же глупо и бессмысленно, как наклейки из газет на картины» (V — 220, 221).
Отвергнув Н. Клюева, А. Блока, В. Маяковского, поэтов пролеткульта и не имея тогда других более плодотворных связей, С. Есенин попал в анархическую группу чуждых его таланту литературных дельцов. Имажинизм Шершеневича, Мариенгофа, Кусикова — это воинственное утверждение вырождавшихся нравов буржуазной культуры. Связав себя с имажинистами, Есенин оказался в обстановке разгульного, богемного быта, процветавшего в «Стойле Пегаса» — литературном клубе имажинистов. Именно здесь впервые познакомился Есенин с Москвой кабацкой, отсюда вынес нечистые словечки, нарушившие целомудренность его поэзии.
Объединившись с имажинистами, Есенин не порывал духовного родства с Ивановым-Разумником и левыми эсерами. Наоборот, в своей проповеди независимого от Советского государства и «марксистской опеки» искусства имажинисты опирались на статьи и лозунги левоэсеровской литературы. Воинственную линию на отделение искусства от государства занимали в это время и Иванов-Разумник, и возглавляемый им литературный отдел эсеровского журнала «Знамя».

С. Есенин среди имажинистов
Не разделяя воззрений имажинистов на роль образа в искусстве и оставаясь в этом вопросе оригинальным, Есенин попадает под влияние их общественно-политической программы и вместе с ними выступает за отделение литературы и искусства от задач народной жизни.
В журнале имажинистов «Гостиница для путешествующих в прекрасном», начавшем выходить с 1922 года, подвергались разносной и часто безосновательной критике стихотворения Д. Бедного, В. Маяковского и других поэтов, связавших свое творчество с повседневной жизнью народа.
В то время, когда В. Маяковский, Д. Бедный, Э. Багрицкий и вступавшие в литературу молодые поэты и писатели ковали свой стих в бессонной кузнице тяжелейшей гражданской войны и несли дозорную службу в РОСТА, имажинисты забавлялись никому не нужными трюкачествами и сочиняли свои вирши, лишенные какой-либо общественной ценности.
Но формалистические лозунги имажинистов — не самое худшее из того, что неблагоприятно отразилось на творчестве Есенина. В конце концов он понял, и очень скоро, что его собственное понимание роли художественного образа несовместимо с пониманием ее Шершеневичем и другими теоретиками имажинизма. И если поэтика имажинистов вызывает у Есенина сомнения с самого начала, и он начиная с 1921 года резко выступает против нее * , то разгульный и нечистоплотный быт имажинистов затягивает поэта надолго.
* (См. статью С. Есенина «Быт и искусство» (отрывок из книги «Словесные орнаменты», 1921, V — 55-61).)
Не чуждые русскому крестьянскому фольклору мятежный дух, стихия озорства, разбойные мотивы, присутствовавшие в поэзии Есенина с самого начала, получили особый простор в его творчестве первых лет революции. «Инония» сконцентрировала их и придала им форму богоборчества и стихийного протеста против старого мира. Но при всем своем бунтарском духе «Инония» не может быть отождествлена с произведениями имажинистского периода. В ней витает революционный дух народа, пусть стихийно и с «особым уклоном» понятый поэтом, но это дух раскрепощения и надежд, дух, прекрасно выраженный А. Блоком в поэме «Двенадцать» и в статье «Интеллигенция и революция», в «Левом марше» В. Маяковского.
Имажинистское отлучение искусства от его общественной роли толкало С. Есенина на анархо-мещанское бунтарство, на эпатаж, граничащий с «отъявленным хулиганством». Тяжелейшие годы в истории русского народа, незабываемые годы первых лет революции, годы кровавой борьбы и бессонного труда, героизма и ни с чем не сравнимых лишений, годы, насквозь пропахшие порохом и потом, не нашли в то время в талантливой поэзии Есенина поэтического воплощения или отражены в ней с чуждых позиций.
Характерные для поэзии А. Мариенгофа и других имажинистов задворки жизни все больше и больше проникают и в поэзию С. Есенина, заслоняя собою большой мир, суживая зрение поэта. Все чаще обращается он теперь к узким темам, к темам, навеянным далеким от бурной творческой жизни народа бытом, к чувствам ушибленных или совсем отброшенных революцией людей. И как раз развитию такого творчества содействует имажинистская атмосфера.
Не развив ни одной сильной черты есенинской поэзии и ничем его творчески не обогатив, имажинизм толкнул его в такую атмосферу идейно-бытовой жизни, которая содействовала возрождению испытанных и в значительной степени уже преодоленных им вредных влияний.
«Эстетика увядания», которой учил поэта С. Городецкий и которая не получила широкого развития в раннем творчестве Есенина, становится теперь едва ли не преобладающей в его поэзии. Сливаясь с мотивами анархо-мещанского или просто имажинистского хулиганства, она знаменует собой то новое, что являет поэт в имажинизме. И это уже не «пышное природы увяданье», не переливы ее осенних нарядов, так ослепительно сверкавшие в ранних стихотворениях Есенина, а увядание его души, увядание таланта, попавшего в чуждое ему окружение.
Самобытному и яркому таланту Есенина и до революции не хватало идейной определенности, демократическая его основа вселяла надежды на его расцвет в годы революции. Связь с имажинистами, несомненно, задержала идейно-творческое развитие поэта. Только преодолев тлетворные влияния имажинистов, пробился он к генеральным темам советской литературы. И в этом случае талант, питавшийся соками народной жизни, победил, но победа нелегко досталась поэту. Имажинизм оставил в его поэзии тяжелые последствия, от которых он не смог освободиться до конца жизни.
Наиболее характерными произведениями Есенина имажинистского периода были «Кобыльи корабли», «Сорокоуст», «Хулиган», «Исповедь хулигана», «Пугачев», цикл стихотворений «Москва кабацкая». И хотя все они являются откликом поэта на современные ему события, ни в одном из них нет поэтической разработки темы революции в традиционном для советской литературы тех лет плане.
В центре этих стихотворений, не исключая лирическую драму «Пугачев», — мятущаяся фигура поэта, который, находясь в глубоком разладе с окружающей его революционной действительностью, сознательно и часто заносчиво подчеркивает этот разлад. «Не сотрет меня кличка «поэт», я и в песнях, как ты, хулиган», — пишет он, обращаясь к ветру (стихотворение «Хулиган»); «Я нарочно иду нечесанным»; «Мне нравится, когда каменья брани летят в меня, как град рыгающей грозы», — признается он в «Исповеди хулигана»; «Если не был бы я поэтом, то, наверно, был мошенник и вор», — говорит поэт о себе (стихотворение «Все живое особой метой»).
Но в этом самообличении, в сознательном выставлении себя на всеобщее обозрение как хулигана, разбойника, конокрада, вора не один только имажинистский эпатаж, в нем слышится глубокая неудовлетворенность поэта, заметен его испуг перед лицом совершающихся рядом с ним событий, от которых он отстранил себя узким миром «Стойла Пегаса».
Сам поэт удивительно точно и с полной откровенностью выразил это свое «новое» состояние:
«Вся в крови душа», а рядом «чужой и хохочущий сброд» — такова та новь, которую осознал в себе С. Есенин в первые послереволюционные годы, о которой с беспощадной искренностью рассказал в своих стихотворениях.
В литературе не раз подчеркивалось, что к имажинистам Есенина привел интерес к поэтическому образу. Это верно, но лишь отчасти. «Ключи Марии» и поэзия Есенина не могут быть ограничены рамками имажинистской поэтики, они принципиально отличаются от нее. Что же касается поэтической практики имажинистов, то она глубоко чужда самому духу есенинской поэзии. Разногласия Есенина с Шершеневичем и Мариенгофом относительно роли поэтического образа в художественном творчестве существовали и до формального объединения группы, и в момент этого объединения, и после него.
В незавершенной книге «Словесные орнаменты», отрывок из которой «Быт и искусство» был опубликован в 1921 году, Есенин со всей определенностью подчеркнул смысл своих разногласий с имажинистами и решительно отверг имажинистскую теорию художественного образа. Лирическая драма Есенина «Пугачев» была последней данью имажинистской поэтике, а некоторые стихотворения «Москвы кабацкой» уже обозначали явный отход от нее. Ясно, что единственной основой сближения поэта с имажинистами не могла быть столь непрочная общность взглядов на роль художественного образа. Но и тогда, когда противоречия в этой области стали гласными и Есенин заявил о них в печати, его связи с имажинистами не порвались.
При активном участии Есенина создается журнал «Гостиница для путешествующих в прекрасном» и издаются сборники стихотворений поэтов группы. С. Есенин подписывает вместе с А. Мариенгофом, В. Шершеневичем, Н. Эрдманом, Р. Ивневым последнюю декларацию имажинистов «Восемь пунктов», опубликованную в 1924 году в № 1 (3) «Гостиницы».
По всей видимости, близость поэта к имажинистам нельзя объяснить одним лишь интересом к роли художественного образа в поэтическом творчестве, а обозначившиеся противоречия в этой области нельзя считать единственной причиной отхода поэта от имажинистов. Q самого начала поэтика имажинистов органически была чужда Есенину, и на одной этой основе объединение с ними становилось невозможным.
Вступив в группу, Есенин сразу же подчеркнул расхождение с нею именно в понимании роли поэтического образа в художественном творчестве. Повторим здесь, что духу есенинской поэтики в большей степени отвечало в эти годы творчество Н. Клюева и А. Белого, и все же он выступил с имажинистами и считал себя в этой группе вплоть до августа 1924 года * .
* (31 августа 1924 г. в «Правде» было опубликовано письмо Есенина и Грузинова следующего содержания: «Мы, создатели имажинизма, доводим до всеобщего сведения, что группа «имажинисты» в доселе известном составе объявляется нами распущенной».)
Больше того, идейно-психологический мир Есенина первых послереволюционных лет, унаследованная им в результате длительных чуждых влияний индифферентность к актуальным социально-политическим проблемам современности делали невозможным в это время объединение его с какой-либо другой литературной группировкой. Приход Есенина к идеологии (а не к поэтике) имажинистов имеет, следовательно, свои закономерности, истоки которых — во всей предшествующей идейно-творческой эволюции поэта.
В. Маяковский и Д. Бедный, открыто поставившие свое творчество на службу революции и подчинившие его конкретным задачам суровых буден, были далеки С. Есенину в силу глубоких расхождений в осознании самой сути революции, в понимании общественной роли искусства и назначения поэта и поэзии.
Пролеткульты, провозгласившие психологию индустриального пролетариата единственной сферой искусства и отрицавшие самое идею эволюционного развития художественного творчества, отрицали объективно и поэзию и поэтику Есенина. Не случайно «Заявление инициативной группы крестьянских поэтов и писателей об образовании крестьянской секции при Московском пролеткульте», подписанное С. Есениным, С. Клычковым, С. Коненковым, П. Орешиным (V — 233-235), не получило положительного решения. Словесные трюкачества футуристов и их урбанистическая поэзия не находили отклика у Есенина.
С другой стороны, несмотря на расхождения с имажинистами, Есенин получал в этой группе полную свободу для реализации в художественном творчестве собственных взглядов как литературно-эстетических, так и общественно-политических. Именно эта пагубная для некрепкого идейного сознания поэта «свобода» и предоставила безбрежный простор для развития таившегося в нем мятежного духа, чему в немалой степени содействовали не ограниченный высокой нравственностью быт имажинистов и их торгово-издательская предприимчивость.
Отрицая общественное назначение искусства, имажинисты исключали из него не быт вообще, а быт революционных буден, не вообще классовость, а классовость пролетарскую.
В декларации «Восемь пунктов» значится: «На обвинение: поэты являются деклассированным элементом — надо отвечать утвердительно: — Да, нашей заслугой является то, что мы уже деклассированы. К деклассации, естественно, стремятся классы и социальные категории. Осознание класса есть только та лестница, по которой поднимаются к следующей фазе победного человечества: к единому классу. Есть деклассация в сторону другого класса — явление регрессивное; есть деклассация в сторону внеклассовости, базирующейся на более новых формах общества; эта деклассация — явление прогрессивное. Да, мы уже деклассированы потому, что уже прошли через период класса и классовой борьбы» (пункт 1). «Поспешным шагом создается новое «красное эстетизирование». Маркизы, пастушки, свирели — каноны сентиментальной эпохи. Машины и сумбур — эстетические привычки буржуазно-футуристической эпохи. Серп, молот, мы толпа, красный, баррикады — такие же атрибуты красного эстетизирования» (пункт 3) * .
* (Журн. «Гостиница для путешествующих в прекрасном», 1924, № 1(3) (страницы в журнале не обозначены). Выделенные нами строки набраны в декларации крупным шрифтом.)
Не принимая повседневный быт революции и выступая против гегемонии пролетарской идеологии, имажинисты провозглашали лозунг: «Имажинизм борется за отмену крепостного права сознания и чувства» * , который являлся простым повторением сказанного Есениным в «Ключах Марии».
Атрибуты быта Москвы кабацкой в изобилии проникают не только в поэзию С. Есенина, их достаточно и в стихотворениях А. Мариенгофа («После грозы», «Ночное кафе», «Шуточные стихи»), и в стихотворениях В. Шершеневича («Июль и Я», «Мещантика»), и Р. Ивнева («Ночная чайная»), и других имажинистов. Несколько примеров:
«Кабак», «девы», «попойка», «пивные кружки» — это и есть атрибуты наиболее характерного для имажинистов быта.
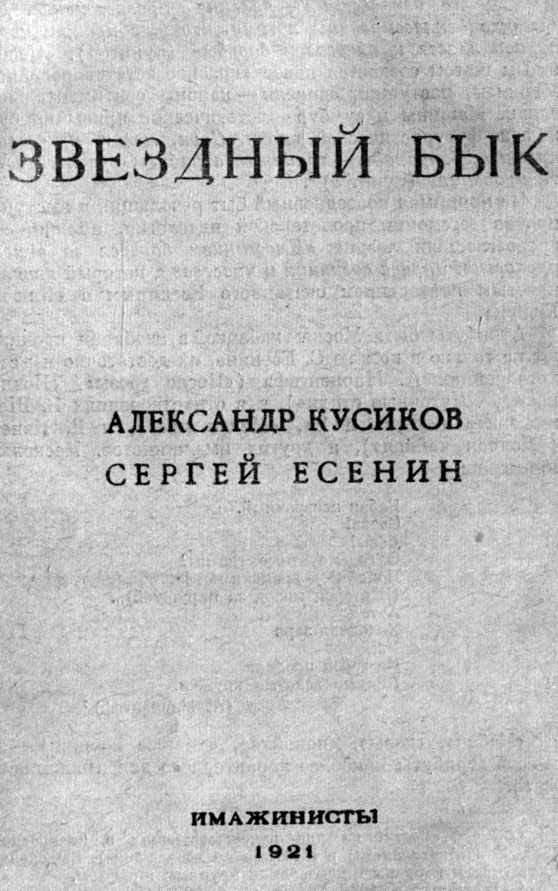
Обложка одного из сборников стихотворении имажинистов

Обложка журнала имажинистов
Еще пример из «Ночного кафе» А. Мариенгофа:
И здесь налицо атрибуты богемного быта.
Из В. Шершеневича:
Примеры эти — не исключение и не случайность, ими мы стремились подчеркнуть наиболее характерные для имажинистов темы и мотивы творчества, реализуемые в деталях обычного для них быта. Антиобщественное значение этой «поэзии» в том и состояло, что она воинственно противопоставляла богемный образ жизни, растрепанную мелкобуржуазную нравственность миру большой жизни, которая кипела за мрачными стенами кабаков.
Оставаясь верным органическому образу, С. Есенин воспринял от своих новых «друзей» наиболее характерные для них детали метафоризации, окрасившие его поэзию в новые тона. Светлые и жизнерадостные краски ранней его лирики уступают место мутным, ржавым и черным, звонкие и радостные голоса сменяются надрывными и безысходными выкриками, на смену буйству и воодушевленности «Инонии» приходят уныние, глубокая грусть. И хотя время от времени в поэте и пробуждается «прежняя удаль», общий тон его поэзии мрачен. Ничто уже в окружающем мире не радует его.
Новый комплекс чувств воплощен уже в «Кобыльих кораблях» (1919). Небо поэту представляется «тучами изглодано», пурга — «кашлем-смрадом». Его преследуют какие-то зловещие образы: «черепов златохвойный сад», «веслами отрубленных рук вы гребетесь в страну грядущего», «рваные животы кобыл, черные паруса воронов». Окружив себя подобными призраками, поэт не видит за ними всей полноты современной ему жизни, а улавливает одни лишь ее негативные стороны, которые и порождают в нем сомнения и страхи.
«Заревом трупов» представляется ему действительность, и он всячески стремятся отгородиться от нее.
Не редкие для эпохи гражданской войны тяжелые картины жизни, так ярко оттеняющие героизм народа в лучших произведениях советской литературы, заслонили зрение поэта, готового отказаться от Октября, лишь бы не видеть этих картин. Октябрь ему представляется «злым» («злой октябрь осыпает перстни с коричневых рук берез», «сгложет рощи октябрьский ветр») * . «Видно, в смех над самим собой пел я песнь о чудесной гостье», — говорит теперь поэт о своих стихотворениях 1917-1918 годов.
* (Слово «октябрь» употреблено здесь Есениным не для одного обозначения времени года. Он использует его политическое значение: Октябрь — месяц пролетарской революции, символ политической пурги, ветра, бури. Это значение слова вполне определенно в стихотворении «Снова пьют здесь, дерутся и плачут. «.
(С. Есенин. Соч. в четырех томах, т. I M.-Л., 1926, стр. 191). См. также значение этою слова в стихотворениях Есенина: II — 223; III — 40; III — 152; III — 162; III — 180.)
Характерные для поэзии С. Есенина гимны революции совсем выпадают из нее в этот период, их место заполняют стихотворения, свидетельствующие о разладе поэта с действительностью («Кобыльи корабли», «Ветры, ветры, о снежные ветры», «По осеннему кычет сова», «Я последний поэт деревни», «Хулиган», «Исповедь хулигана», «Сторона ль ты моя, сторона!», цикл «Москва кабацкая»).
По преимуществу в них развиваются два тесно связанных между собой мотива: неприязненное, порой враждебное отношение к новой действительности и неудовлетворенность собственной судьбой.
Мотивы эти воплощаются в грустных и унылых пессимистических тонах («Облетает моя голова, куст волос золотистых вянет», «Скоро, скоро часы деревянные прохрипят мой двенадцатый час», «Друг мой, друг мой, прозревшие вежды закрывает одна лишь смерть», «Не жалею, не зову, не плачу», «Увяданья золотом охваченный, я не буду больше молодым», «Не зреть мне радостного дня»). Часто они принимают форму надрывных, щемящих душу, а порою отталкивающих заклинаний и вызова общественному мнению («Ну так что ж, что кажусь я циником, прицепившим к заднице фонарь!», «Я на всю эту ржавую мреть буду щурить глаза и суживать», «Здравствуй ты, моя черная гибель, я навстречу тебе выхожу», «Но отпробует вражеской крови мой последний, смертельный прыжок», «Я с собой не покончу, иди к чертям»).
Строй новых чувств все чаще выражается поэтом в близкой имажинистам образности («И даже солнце мерзнет, как лужа, которую напрудил мерин», «Посмотрите, у женщины третий вылупляется глаз из пупа», «Если хочешь, поэт, жениться, так женись на овце в хлеву», «На измызганных ляжках дорог?», «Вы, любители песенных блох. «, «Но не бойся, безумный ветер, плюй спокойно листвой по лугам», «Приятны мне свиней испачканные морды», «Башка моя, словно август, льется бурливых волос вином», «Мои рыдающие уши, как весла, плещут по плечам», «Я и сам, опустясь головою, заливаю глаза вином», «Гармонист спиртом сифилис лечит», «Излюбили тебя, измызгали»). Вместе с ними в поэзию Есенина широким потоком вливаются слова типа: сука, кобель, задница, измызгали, ляжки, выдра (в значении женщина), сиськи, сифилис, спирт, мертвячина, хулиган и многие другие.
Вытесняя религиозно-библейскую образность и лексику, они знаменуют собой не подъем, а упадок поэтического мастерства Есенина. Поэзия Есенина этого периода теряет свой привлекательный облик, а мир выражаемых в ней чувств характеризует всю глубину начавшегося духовного кризиса автора.
Но, в отличие от внешней бравады и шарлатанства имажинистов, жонглировавших словами и образами, творческий кризис С. Есенина явился следствием трагических для его таланта заблуждений.
Понимая в ту пору революцию как неизбежное наступление города на деревню, он видит в этом гибель деревни, а вместе с нею — искусства, узловые завязи которого она, по его мнению, хранит, а также гибель собственной поэзии, питавшейся соками патриархальной жизни.
Именно поэтому все больше и больше задумывается Есенин о судьбе своих песен, которые, как казалось ему, должны умереть вместе с патриархальным миром деревни, неспособной противостоять неумолимому наступлению на нее железной, неодушевленной механической силы. Вместо «светлого гостя», которого поэт восторженно приветствовал в 1917 году, в его лирике возникает образ гостя «черного», нежеланного, враждебного.
Глубоко трагические переживания поэта, в которых столкнулись вековые предрассудки патриархальной психологии с новью революционной жизни, решительно отмежевывают его от пустозвонного шарлатанства имажинистов и их поэзии, не имевшей корней в прошлом национальной жизни, хотя свои чувства и переживания Есенин и выражал в это время в близких имажинистам поэтических формах.
Среди стихотворений, созданных Есениным в имажинистский период, наиболее значимы «Сорокоуст», «Мир таинственный, мир мой древний», «Не ругайтесь! Такое дело», «Пугачев». В них особенно отчетливо заметны идейно-художественная эволюция поэта, его умонастроение и мир новых чувств, вызванных глубинными процессами общественной жизни России, вступившей в полосу коренных социальных преобразований, в свете которых обнаружилась иллюзорность идеалов, так ярко выраженных в «Ключах Марии» и «октябрьских» поэмах * , особенно в «Инонии».
* (Термином «октябрьские» мы будем обозначать поэмы С. Есенина, созданные в годы революции и гражданской войны 1917-1918 гг.)
Пролетарский характер революции стал для поэта очевиден. С полной ясностью представил он себе и неизбежность социалистических преобразований в деревне, которые русский рабочий класс начал решительно осуществлять при поддержке трудового крестьянства и в союзе с ним. Поэт увидел теперь истинный характер исторических событий, совершившихся в стране, вместо «небесной» революции — земную, реальную. Вот тогда-то и встал перед ним вполне отчетливый и мучивший многих русских писателей вопрос: принимать или не принимать?
И если раньше в октябрьских поэмах Есенин пел восторженные гимны созданной им в воображении мужичьей революции, то реальную пролетарскую революцию он принял мучительно тяжело и не сразу. В его поэзии этого периода стремительно нарастают мотивы разочарования, грусти, отчаяния, достигая своего предела в стихотворении «Мир таинственный, мир мой древний», созданном перед отъездом за границу.
Поэзия Сергея Есенина 1920-1922 годов выражает явный и нисколько не завуалированный протест против социалистических преобразований в деревне. Об идейном разладе поэта с действительностью свидетельствуют многие его стихотворения, но наиболее отчетливо этот разрыв выражен в поэтическом решении темы города и деревни. И не нужны здесь никакие скидки, полушепот, недомолвки и нередкие еще разговоры о том, будто бы Есенин противопоставляет себя не пролетарскому, а капиталистическому и нэпманскому городу.

С. Есенин и А. Сахаров
Ни капиталистам, ни нэпманам не было никакого дела до социалистических преобразований в деревне, которые пришли в нее вместе с пролетарской революцией, и поэтому есенинский вызов городу имеет вполне определенный адрес.
Нерадостное восприятие поэтом социализации деревни с полной обнаженностью было выражено уже в стихотворениях, объединенных печальным названием «Сорокоуст» (1920). В них обновление деревни ощущается Есениным равносильно ее трагическому концу («Трубит, трубит погибельный рог»).
Поэту явно не по душе происходящее, и он тщательно подбирает краски, чтобы нарисовать картину неравной схватки, олицетворяя в близкой ему патриархальной действительности все живое и беззащитное, а в городе — неодолимую, чужую, слепую, механическую силу («Никуда вам не скрыться от гибели, никуда не уйти от врага»).
«Страшный вестник» «с железным брюхом», «громоздкой пятою ломающий чащи» и стремящийся намертво зажать в свои железные объятья любимые сердцу, беззащитные и живые «глотки равнин», — вот поэтическая характеристика «электрического восхода» — эпохи «глухой хватки ремней и труб», от которой трясет деревню, как больного лихорадка. Поэтому-то и «трубит погибельный рог», а поэт поет отходную молитву деревне («Сорокоуст»).
Неравность и безнадежность схватки металлического и живого с огромной поэтической силой выражена и в картине отчаянных гонок тонконогого, красногривого жеребенка и громадины поезда на лапах чугунных.
Перед поэтом, восторженно принявшим революцию, вновь остро встал вопрос: принимать или не принимать? Неверно было бы утверждать, что он усомнился в необходимости революции в целом. В эти дни тяжелых раздумий Есенин по-прежнему «со всеми устоями — на платформе советской власти», в исторической справедливости которой у него нет сомнений. Смысл вставшего перед ним вопроса иной. Это вопрос человека, принявшего революцию, но не четко представлявшего пути ее развития.
В «Сорокоусте» поэт сомневается в истинности предпринятой русским рабочим классом индустриализации деревни. Его страшит проникновение городской механической силы в деревню, потому что он видит в этой силе не спасение, а гибель деревни. И, воспринимая таким образом усилия рабочего города, выступает против них («Черт бы взял тебя, скверный гость! Наша песня с тобой не сживется»).
Здесь поэт пока лишь сожалеет о том, что его песня едва ли сживется с эпохой «электрического восхода», который ей не по нутру и который побуждает ее к грусти и печали («Оттого-то вросла тужиль в переборы тальянки звонкой»).
Эта «тужиль» заметна в стихотворениях «Я последний поэт деревни. » (1920); «Хулиган» (1920); «Сторона ль ты моя, сторона. » (1921), «Все живое особой метой. » (1922)
Чувства, с такой искренней грустью поэтически выраженные в «Сорокоусте», не менее определенно выражены в письме Есенина, написанном по дороге на Кавказ в 1920 году.
«Трогает меня в этом только грусть за уходящее милое родное звериное и незыблемая сила мертвого, механического. История переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал, а определенный и нарочитый, как какой-нибудь остров Елены, без славы и без мечтаний. Тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений» (V — 140).
И хотя в «Сорокоусте» и цитируемом письме Есенина нет прямого вызова революции, в них уже содержатся мотивы такого решения темы города и деревни, дальнейшее развитие которых могло бы привести поэта на грань объективного разрыва с революцией.
Надо отчетливо представить себе, что поэзию Есенина этого периода нельзя свести только к пассивной грусти об уходящем. В стихотворении «Мир таинственный, мир мой древний» (1922) * поэт вновь остро ставит тему города и деревни, но теперь уже решает ее по-иному: выступая в роли активного борца против города, он уподобляет себя «затравленному» и «зажатому в тиски облав» волку, приготовившемуся к последнему смертельному прыжку на врага.
* (Это стихотворение имело название «Волчья гибель», снятое впоследствии поэтом.)
В полном отчаяния стихотворении брошен вызов пролетарскому городу, как силе враждебной, необоримой, призванной смести с лица земли «мир таинственный и древний», мир, который так близок поэту и который теперь «затих и присел», потому что на его шее затягивается петля «каменных рук шоссе».
В этот гонимый, умирающий, но прекрасный, по мнению поэта, мир прочно вросли живые корни его глубокой любви, вырвать которые — означает погибнуть. И поэт готов к этой «черной гибели», которую приветствует и навстречу которой хотя с сожалением, но выходит, потому что никакой другой любви не знает и знать не хочет. И хотя любовь эта безрадостна, прямо-таки трагична и от нее «тягуче колко сердцу», поэт готов донести ее до конца. Уже не о госте, пусть и нежеланном, говорит он в этом стихотворении, а о «железном враге», с которым надо смертельно драться.
К такому рубежу пришел тогда С. Есенин в раскрытии темы города и деревни. И такое ее решение явилось неизбежным крахом иллюзорных представлений о революции, так выпукло и красочно расцветших в «Инонии».
Закономерный и столь же неприемлемый для Есенина поворот революции уже совсем неожиданно для него пришелся по душе русскому крестьянству. А это поставило в тупик поэзию певца «таинственного мира», оказавшегося призрачным под напором новой жизни.
Стремясь быть полезным деревне, поэт не нашел в ней желаемого читателя. Новая деревня пела новые песни и шла не туда, куда звала ее поэзия Есенина. С беспощадной откровенностью и болью писал Есенин в своей биографии в 1922 году: «Самые лучшие поклонники нашей поэзии проститутки и бандиты. С ними мы все в большой дружбе» (V — 10). Этот читатель его не устраивал. Такой беспощадной оценки поэзии Есенина мы не найдем ни у кого из критиков того времени.
Таким образом, налицо разрыв между стремлениями поэта быть полезным деревне и тем результатом, к которому пришел он к 1922 году. Позади десять напряженных поэтических лет, от чистого сердца созданы произведения, которые никому, кроме бандитов и проституток, как думал тогда Есенин, не нужны.
Вот это-то и было истинным несчастьем, приведшим поэта к глубокой духовной драме. Есенин оказался в положении человека, который вдруг обнаружил, что его любовь была ложной, а стремления — напрасными. Эти настроения поэта и нашли выражение в стихотворении «Не ругайтесь. Такое дело. » (1922).
Для «Волчьей гибели» при всей мрачности состояния поэта все же характерна его активность и стремление вести борьбу, хотя и безнадежную. В стихотворении «Не ругайтесь. Такое дело. » ничего этого нет. Здесь поэт отвернулся не только от города, но и от далекой ему теперь деревни («Нет любви ни к деревне, ни к городу»).
Вот то душевное смятение, которое характерно для поэта имажинистского периода. Это едва ли не самые тяжелые дни в его жизни. Такого глубокого упадка не знала еще поэзия ни одного крестьянского писателя ни в дооктябрьскую, ни в послеоктябрьскую эпоху. Это знаменательный и исторически обусловленный рубеж, дальше которого уже не было близких к народу путей развития идей патриархального социализма, дальше которого начиналась контрреволюция, разрыв с народом.
Стихотворение «Волчья гибель» ставило поэта на гибельную для него грань, но как только он почувствовал это, он ушел с чуждой ему дороги. Для Есенина наступили дни мучительных поисков новых творческих путей, дни, полные грусти, отчаяния, ошибок и глубоких раздумий. В поисках и раздумьях, в решительном преодолении ложных надежд и осознании правды жизни рождался новый советский поэт.
С. Есенин недаром называл себя последним поэтом старой деревни. В его творчестве первой трети двадцатых годов нашла логическое завершение та линия нашей литературы, идеологической почвой которой был мелкобуржуазный социализм. И если в дооктябрьскую эпоху эта литература находила питательную среду в самой жизни, то в эпоху победившей пролетарской революции и ее последующего преобразующего движения почва эта исчезала.
Но Сергей Есенин не только закрыл последнюю страницу старой крестьянской поэзии, он оказался еще и тем поэтом, который нашел в себе силы открыть страницу новой поэзии, шедшей навстречу революционной энергии русского народа.
И это мучительное рождение новой есенинской поэзии, пережившей критические дни психологического упадка, отчаяния, то иноческого смирения, то безудержного бунтарства, отражает закономерные процессы, имевшие место в мелкобуржуазных слоях русского общества.
Этот процесс перерождения поэта во всей его трагической сложности отражен в пьесе «Пугачев», а также в созданных за границей пьесе «Страна негодяев» и поэме «Черный человек».
Обращаясь в «Пугачеве» к большой исторической теме, С. Есенин собирался поправить Пушкина и дать свое собственное изображение пугачевского движения и пугачевцев. Ив. Розанов записал такое высказывание Есенина:
«Однажды Есенин сказал мне * : «Сейчас заканчиваю трагедию в стихах. Будет называться «Пугачев». — А как вы относитесь к пушкинской «Капитанской дочке» и к его «Истории»? — «У Пушкина сочинена любовная интрига и не всегда хорошо прилажена к исторической части. У меня же совсем не будет любовной интриги. Разве она так необходима? Умел же без нее обходиться Гоголь». И потом, немного помолчав, прибавил: «В моей трагедии вообще нет ни одной бабы. Они тут совсем не нужны: пугачевщина — не бабий бунт. Ни одной женской роли. Около пятнадцати мужских (не считая толпы) и ни одной женской. Не знаю, бывали ли когда такие трагедии». «Я несколько лет, — продолжал Есенин, — изучал материалы и убедился, что Пушкин во многом был неправ. Я не говорю уже о том, что у него была своя, дворянская точка зрения. И в повести и в истории. Напр., у него найдем очень мало имен бунтовщиков, но очень много имен усмирителей или «тех, кто погиб от руки пугачевцев. Я очень, очень много прочел для своей трагедии и нахожу, что многое Пушкин изобразил просто неверно. Прежде всего сам Пугачев. Ведь он был почти гениальным человеком, да и многие из его сподвижников были людьми крупными, яркими фигурами, а у Пушкина это как-то пропало. Еще есть одна особенность в моей трагедии. Кроме Пугачева, никто почти в трагедии не повторяется: в каждой сцене новые лица. Это придает больше движения и выдвигает основную роль Пугачева» ** .
* (Разговор относится к 1921 г.)
** (И. Розанов. Мое знакомство с Есениным, стр. 42-43.)
Таков был замысел трагедии, но осуществить его полностью поэту не удалось.
Есенин долго и напряженно работал над пьесой, изучал литературу о пугачевском движении, совершил поездку в Самару и Оренбург. Первые варианты пьесы относятся к 1921 году, а решение создать ее возникло в 1920 году * . Отдельные строки и строфы имеют в рукописи до двадцати вариантов, а общее их количество вчетверо превышает окончательный ее текст. В восьми картинах, составивших печатный текст пьесы, Есенин не раскрывает историю пугачевского движения и не стремится к этому, хотя первоначально и называл свое произведение «Поэмой о великом походе Емельяна Пугачева».
* (См. В. Вольпин. О Сергее Есенине. В сб.: «Сергей Александрович Есенин». М.-Л., ГИЗ, 1926.)
Исторические сведения использованы в пьесе скупо и па них поэт не сосредоточивает внимание, отношение его к географии событий свободное * , речь персонажей не соотнесена со временем и характерами.
* (Ср., напр., варианты строк: I. Из самарских степей за Чиган. II. От Сакмары проползло на Иргис. III. Видели, как тянулись за Черемшан (IV — 323).)
С самого начала в пьесу врываются трагедийные мотивы, предвещающие неудачный исход предпринятого Пугачевым дела, которые и определяют ее тональность и лирико-философский колорит.
Уже в момент появления в яицком городке Пугачев чувствует себя усталым и больным («Ох, как устал и как болит нога!»), в других эпизодах его преследуют мрачные предчувствия и видения. Птицы, пролетающие в ночи, кажутся ему черными крестами, принятое имя Петра — «гробом смердящим», «осень, как старый оборванный монах, пророчит о погибели».
Образ зловещей осени постоянно сопутствует пугачевцам, он появляется сразу же после казацкого мятежа и сопровождает в дальнейшем каждое действие восставших, принимая форму то «скверного дождя», то «скелетов общипанных верб», «плавящих ребер медь», «рыгающих туч», «израненного в хмурой октябрьской поре тополя», а то воплощается вдруг в трагическое знамение, встающее на пути пугачевцев и предвещающее беду:
«С пробитой башкой ольха», «прихрамывающая при дороге», — одна из метаморфоз все той же осени, сбрасывающей с деревьев желтый лист, падение которого уподоблено капающему с головы ольхи желтому мозгу (сравни образ из монолога Пугачева: «Мозг, как воск, каплет глухо, глухо. «); со старыми листьями, срываемыми октябрьским ветром, сравнивает пугачевцев Творогов («Слушай, слушай, мы старые листья с тобой! Так чего ж нам качаться на голых корявых ветвях?»).
Атмосферой трагических предчувствий наполнены монологи Караваева, которому «рыгающие тучи напоминают расправу за мятеж», Шигаева, Торнова, Чумакова, Бурнова, Творогова. В этой трагической атмосфере неизбежной гибели и раскрывается внутренний мир вождя крестьянской революционной вольницы.
Страх участников движения перед «подлой оборванной старухой» — осенью оказался не напрасным, и Пугачев, схваченный предавшими его сообщниками, винит в этом осень, подкупившую их и ставшую причиной его гибели:
Ему представляется, что осень визжит и хохочет и «хихикает исподтишка», радуясь его гибели. И не только падению одного Пугачева сопутствует хохот и хихиканье осени, с этим образом он связывает гибель родной страны:
Изображая «злодеяния» осени, помешавшие Пугачеву осуществить свой план, Есенин именно в них, а не в военных силах Екатерины II, видит одну из важных причин падения своего героя. Пугачевщина погибла изнутри, в силу закономерных противоречий психологии принявших участие в движении крестьянских масс — вот мысль, которую художественно утверждает поэт в своей пьесе, и она выпукло выделена им уже в первой картине. Знаменателен диалог только что появившегося в яицком городке Пугачева со сторожем:
Откровенная и точная характеристика мелкособственнической психологии крестьянских масс, возглавленных Пугачевым, свидетельствует о разочаровании поэта в надеждах создать на земле рай вольных мелких хозяев, в пьесе он отказывает им в последовательной революционности, а в собственнической психологии восставших видит еще одну из главных причин трагедии своего героя. Вождь крестьянского восстания был схвачен сообщниками и ими же предан во имя спасения собственной жизни.
Бунтарь по крови, человек с вольной степной душой, тонко чувствующий природу, «бег ветра и твари шаг», способный слышать «свист листолета» и «запах трав», Пугачев отличается бесстрашием и непримиримостью в борьбе. Долгие годы он «учил в себе разуму зверя», познал свое «призванье и имя» и «значение свое разгадал».
«Сердцем степной дикарь», Пугачев не может смириться даже с малейшими притеснениями вольной мужичьей степи, он питает неиссякаемую ненависть к притеснителям и готов мстить им, видя в этой мести свое назначение. Упоминая об общественных причинах пугачевского движения, Есенин не раскрывает социального облика героя, его историческую роль, а сосредоточивает внимание на его биологической природе. Мятежник и бунтарь от природы, Пугачев не может быть иным, как не могут быть иными предавшие его сообщники. Вождь восстания падает под ношей собственной души, не имея возможности ни изменить ее, ни поступить иначе: «Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?» — этими строками Есенин заканчивает трагедию.
Но если Пугачев до конца остается верным своей натуре, то сообщники, предавшие его, при первой опасности жертвуют своей душой, стремясь спасти жизнь.
Противопоставление внутреннего мира Пугачева внутреннему миру его сподвижников — характерный в пьесе штрих. Вождь восстания называет взбунтовавшихся крестьян «злой и дикой оравой», «бродягами и отщепенцами», чья жестокость и погромы могут быть поняты, по его мнению, лишь в свете справедливой мести за покушение на жизнь царевича Петра, имя которого он принимает.
Но если Пугачев радуется «благовесту бунтов», назревших в крестьянстве, то его соратники видят в них предвестие беды. Шигаеву, например, «дикий табун деревянных кобыл» — домов кажется роковым, в каждой трубе он видит оголтелого всадника, в избяном галопе — знамение несчастья:
В бешеном галопе изб Шигаеву представляется не поиск деревней каких-то новых дорог, а испуг, «переполох» перед совершающимися событиями.
Кроме самого Пугачева до конца биться способен один лишь Хлопуша, его привлекает «удаль и буйство» крестьянского вождя, которому он несет свою «тяжелее, чем камни, душу». Живое свидетельство социальной несправедливости, Хлопуша впитал в себя гнев восставших низов и в пугачевщине находит возможность его утоления. Рисуя этого «местью вскормленного бунтовщика» до предела озлобленным, знающим одну лишь правду: «не сожрешь, так сожрут тебя же», Есенин в ряде характеристик сближает его с Пугачевым.
Хлопуша трезв в решениях, обладает незаурядным умом, ему не чужды большие чувства. Есенин, однако, сопровождает этот образ и такими характеристиками, которые заслоняют истинный облик героя и снижают его социально-историческое содержание. Хлопуша называет себя «негодяем», «жуликом», «убийцей», «фальшивомонетчиком», «бродягой», «волком», готовым «человеческое мясо грызть». Заметим, что это «саморазоблачение» героя сродни настроениям самого поэта, уподоблявшего себя загнанному и затравленному волку.
Составив пьесу из серии монологов, Есенин лишь внешне объединил их историческим сюжетом, отодвинув на второй план также и действие. Но если все монологи, вместе взятые, не раскрывают конкретно-исторической картины пугачевского движения, то в них последовательно и правдиво выражены умонастроения и внутренний мир самого поэта. Идеи и чувства автора и придают пьесе лиричность и единство и составляют главный ее пафос. Больше того, без них пьеса не представляется целым, а распадается на отдельные монологи, слабо связанные друг с другом.
Как и в «Кобыльих кораблях», и в «Исповеди хулигана», и в «Сорокоусте», в «Пугачеве» — комплекс чувств, возникших у поэта в результате осознания пролетарского характера русской революции, осознания ложности собственных идеалов, осуществление которых он с нею связывал.
В стихотворении «Не ругайтесь. Такое дело. » поэт признавался: «нет любви ни к деревне, ни к городу», и это признание не было случайным. Свою нелюбовь к городу Есенин вполне определенно выразил в «Сорокоусте» и «Волчьей гибели». В пьесах «Пугачев» и «Страна негодяев» он отказался от идеализированных представлений о патриархальном русском крестьянстве, разочаровался в психологии мелкого собственника, подверг ее критике. Пьеса Есенина — это новый этап в идейной эволюции поэта.
Уже говорилось ранее, что в художественной структуре пьесы «Пугачев» большое место занимает образ осени, он сопутствует каждому движению пугачевцев, используется автором при характеристике умонастроений персонажей.
Последовательно развертывая этот образ, внося в него все новые и новые оттенки, связывая с ним наиболее глубокие размышления как Пугачева, так и других героев, Есенин постепенно вытесняет им исторические события времен Екатерины II. Вследствие этого в пьесе возникает коллизия: Пугачев — осень — пугачевцы, в раскрытии которой сосредоточен пафос пьесы и ее идейно-художественный смысл.
Поставив осень между вождем восстания и его участниками, Есенин не остался нейтральным к этому крайне важному для него образу. Наоборот, вызванные образом осени авторские ассоциации поэт перенес на своих героев, заполнив многие из их монологов собственными переживаниями, в результате чего произошло смещение исторического в современность. Но чтобы это понять, необходимо выяснить авторское восприятие образа осени.
Обернувшаяся для Пугачева «злой и подлой оборванной старухой», подкупившей «чеканенными сентябрем червонцами» участников восстания, осень внесла в их среду раскол, ставший причиной гибели всего движения я источником трагедии Пугачева, ощущающего осень как силу, расслоившую крестьян, оторвавшую их от него, что Пугачев расценивает как крах собственных идеалов и видит в этом возможную гибель всей «родной страны».
В такой трактовке образа осени содержится указание автора на современные ему события. Устами своего героя поэт высказывает характерные для него самого настроения, возникшие в результате осознания пролетарского содержания совершившейся в России революции, с задачами которой оказались несовместимыми как идеалы самого автора, так и идеалы его героя, стремившегося силой оружия утвердить мужицкую империю.
Взглянув на пугачевское движение с точки зрения современных автору событий и представив это движение в условиях послеоктябрьской действительности, Есенин понял его бесперспективность и обреченность. Подобная ситуация возникает также и в другой пьесе Есенина «Страна негодяев».
Стремление Пугачева воодушевить своих сподвижников идеалами «степных станиц», его страстный призыв «разжигать еще больше тот взвой, когда ветер метелями с наших сторон дул» не встречают одобрения, наоборот, чем ярче рисуется перед взором участников движения образ осени, тем решительнее они отказываются от призывов своего вождя.
Сравнение осени с суровым и злым октябрем неоднократно в пьесе, и им поэт обозначал не одно лишь время года. В его поэзии этих лет, как уже было замечено выше, октябрь ассоциируется с революцией. И в цитированных строках «Все равно то, что было, назад не вернешь, знать недаром листвою октябрь заплакал. » речь идет не о времени года, а о больших социальных событиях, в свете которых пугачевцы оценивают деятельность своего вождя как «сумасбродство», а его борьбу называют «ненужной и глупой».
Один из восставших — Творогов — сравнивает тополь, «израненный холодными меткими выстрелами хмурой октябрьской поры», с Пугачевым:
И опять хмурая октябрьская ночь — не одно лишь указание на время года и суток. Да и не может одна ночь общипать своим дождем Емельяна. И здесь, по-видимому, поэт хочет сказать символами, что после ночи пролетарской революции бунтарские порывы Пугачева уже не могут увлечь крестьян. Поэтому-то осень и хмурая октябрьская ночь воспринимаются Пугачевым враждебно.
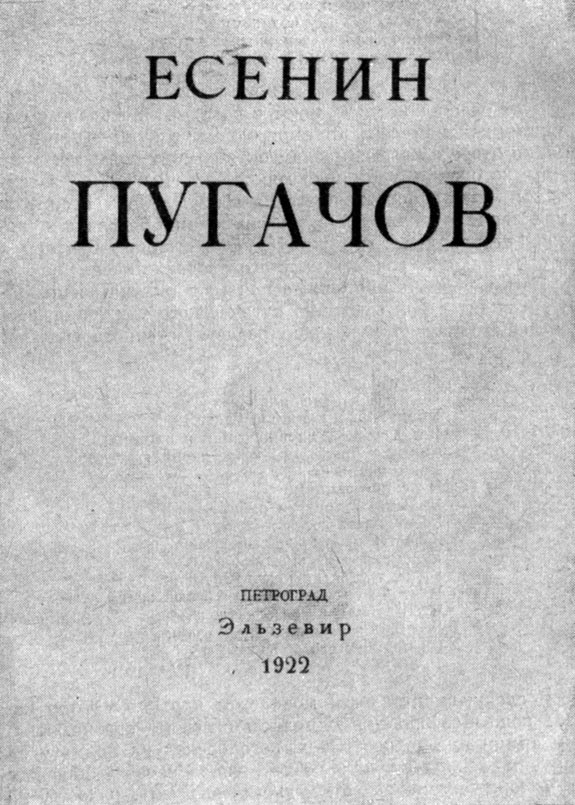
Обложка книги С. Есенина
Такое восприятие осени не характерно для пугачевцев. Для них она — знак предупреждения, символ возмездия за безрассудный и бесперспективный мятеж. И если в воображении Пугачева осень превращается в силу, погубившую движение, то его сподвижники ощущают ее в конце пьесы как союзника и приветствуют буйные краски осени, которая теперь после отказа от мятежа, стала им близкой, и они благословляют маковые расцветки ее нарядов. Сразу же после падения Пугачева и его последнего монолога об осени, как его заклятом враге, следуют слова Творогова:
Этот неожиданный поворот в восприятии образа пугачевцами закономерен лишь при одном условии — при признании этого образа символом октябрьских событий, «мак зари» которых «будет ярче гореть» на чистом, не затемненном крестьянскими бунтами фоне. «Медь осени» и «мак зари» и являются здесь символами революции, которой не по пути с мятежной душой степного бунтаря и которая находит сочувствие у его сподвижников.
Есть в пьесе и еще один аспект восприятия осени. Зарубин видит в ней союзника пугачевского движения, возвестившего начало мужицкой радости, степного счастья:
В следующей за этим монологом картине «Ветер качает рожь» сообщается о полном разгроме сорокатысячной армии пугачевцев и тех, кого послал на подмогу ей Зарубин, который также гибнет, унося с собой надежду па «неожиданную радость мужицкой Руси», радость, не осуществившуюся в бунте.
Взяв в качестве сюжета пьесы исторический факт, Есенин перенес его в послереволюционные условия, заполнив монологи героев характерными для первых советских лет авторскими переживаниями, ассоциациями и оценками. Судьбой своего героя поэт подчеркнул обреченность пугачевщины в обстановке свершившихся в Октябре событий.
Пугачев развенчан автором морально, он гибнет под тяжестью собственной души, анархические порывы которой несовместимы с новой жизнью и не находят отклика у его сподвижников в силу неустойчивости их мелкособственнической психологии, лишенной, по мнению автора, последовательности, характерной для внутреннего облика Пугачева. В этом Есенин и видит трагедию крестьянского бунтаря, душевный мир которого близок самому поэту, перенесшему в пьесу мотивы и настроения собственной лирики этих лет. Для сравнения с цитированными ранее из стихотворений Есенина строками выпишем такие строки из пьесы:
Мотив утраченной юности — один из ведущих в лирике поэта конца десятых и начала двадцатых годов. В пьесе он возникает в заключительном монологе Пугачева, воспринявшего поражение как крах юношеских надежд, которым не суждено было осуществиться, крах, после которого наступает душевное бессилие, пустота, с такой яростью и скорбью выраженная поэтом в стихотворении «Не ругайтесь. Такое дело. «.
В монологах других героев немало строк, родственных по утверждаемым в них чувствам лирическим стихотворениям Есенина. Бурнов, например, перед лицом надвигающейся опасности хочет уйти в безвестную и безмятежную юность:
Как и поэт, Бурнов «чувством жизни болен» и готов сделать «что угодно, чтобы звенеть в человечьем саду». В монологе Крямина слышны мотивы «Сорокоуста»:
Но вместе с тем «Пугачев» — не простое повторение мотивов лирики Есенина. В трагедии громко слышны иные тона. Она знаменует собой идейное осознание поэтом неодолимости новой жизни, утвержденной Октябрем, развенчание анархического бунтарства, признание популярности пролетарской революции, подкупившей, по выражению поэта, сообщников Пугачева и оторвавшей их от него. Вероятно, так понимая свою пьесу, Есенин называл ее «действительно революционной вещью», на что указывает в своих воспоминаниях В. Кириллов * .
* (См. В. Кириллов. Встречи с Есениным. В сб.: «Сергей Александрович Есенин». М., 1926, стр. 174.)
В трагедии Есенина основной формой раскрытия душевного состояния героев является лирический монолог, в ней почти совсем отсутствуют диалог и взаимохарактеристики персонажей. Пьеса представляет серию отдельных лирических миниатюр, объединенных в самостоятельный цикл пронизывающим их чувством автора, выражаемым в характерной для его лирики этих лет образной системе, в которой весьма ощутим имажинистский налет.
Пьеса обременена громоздкой, часто замысловатой и излишней образностью, простые и понятные мысли поэт облекает подчас в многослойные и усложненные поэтические фигуры, перенаселяя ими текст. Рассмотрим всего лишь несколько образов:
В простой мысли Пугачева «светает, а мне еще нигде вздремнуть не удалось» слово «светает» раскрыто цепью сложных метафорических образов. Рассвет уподоблен клещам, звезды — зубам, темное небо — пасти. Начавшаяся заря гасит своим светом яркие ночью звезды, выдергивая их, словно зубы, из пасти темноты. Даже в устах чуткого к природе Пугачева чувствуется перегрузка речи образами, его же собеседнику, сторожу яицкого городка, такая речь должна казаться сложной ввиду необычности и необиходности лежащих в ее основе уподоблений.
Но и сам сторож выражается не менее образно. Слово «светает» и в его сознании ассоциируется с целой системой уподоблений:
Луна — колокол, а ее лучи — благовест. На рассвете луна не очень ярко светит, в лучах восходящего солнца она мала и не свежа, как увянувшее и поблекшее яблоко, и благовест ее глух. Снова цепь метафорических превращений в обычной беспафосной беседе двух людей.
Такая усложненность речи, перенасыщенность ее образами наблюдается в каждом монологе трагедии. Труд земледельцев поэт уподобляет «цежению молока соломенного ржи», овес у него, «сломав зари застенок, гонится на водопой рысцой», огурцы, как челноки, ныряют на грядках, в сердце пучатся «жабьи глаза грустящей в закат деревни», а избы становятся деревянными колоколами.
Громоздкие уподобления — не единственная дань имажинизму. В трагедию «Пугачев» Есенин внес резкие вызывающие тона, эстетически отталкивающие образы:
«Ягненочек кудрявый — месяц», «месяц, всадник унылый, роняющий поводья — лучи», «месяц — плывущая по ночному небу ладья, роняющая весла по озерам», превращается в череп, а ровный желтый свет месяца, так радовавший раннего поэта, становится гнилью, слюной, капающей на землю. Ветер дует теперь «сырью и вонью болот», «птицы склевывают на лету желудочное серебро», голова все чаще соседствует с эпитетом «разбойная», «слухи воют как пес», «вербы похожи на скелеты», кусты — на оборванцев, а герой трагедии ощущает себя зверем и для него естественны слова:
Критикой двадцатых годов пьеса «Пугачев» рассматривалась как неудача поэта, который не смог найти адекватные художественные средства для воплощения исторического сюжета.
«В то время он долго и упорно работал над «Пугачевым». Поэма не удалась. Это его сильно огорошило» * , — замечал Н. Полетаев.
* (См. Воспоминания Н. Полетаева. В сб.: «Сергей Александрович Есенин». М.-Л., 1926, стр. 103.)
«Опыт эпической поэмы «Пугачев» не был удачным. Лирические излияния действующих в ней лиц не имеют ничего общего с исторической правдой. В поэме «Пугачев» мы получаем пример глубокого несоответствия между темой и ее художественным оформлением. Энергия лирической формы тратится впустую, потому что художественной сущностью поэмы является совсем не пугачевщина, не определенная историческая действительность, а настроение поэта, его чувства, связанные с созерцанием русского пейзажа. Поэма в целом, являя разлад между сущностью и формой, не теряет своей ценности в отдельных частях, как собрание лирических стихотворений. В них, как в большинстве других стихотворений Есенина, выражена основная идея его поэзии — звериная любовь к жизни, болезненно острая, вступающая часто в разлад с интеллектом. Поэт был «чувством жизни» болен, как говорит один из героев поэмы — Бурнов. В образе Пугачева поэта привлекла душа степного дикаря — до общественных корней пугачевщины, до исторической роли Пугачева поэту по существу мало было дела. Поэт выводит историческую роль народного вождя не из его социальной общественной значимости, нет, поэт ставит своей целью показать, что бунтарь, мятежник — это явление биологическое, природа создает людей такими, иными они быть не могут» * , — писал Георгий Якубовский в статье «Поэт великого раскола».
* (Г. Якубовский. Поэт великого раскола. «Октябрь», 1926, № 1, стр. 132.)
В книге Г. Лелевича «Сергей Есенин» отмечено: «Крупнейшим произведением имажинистского периода творчества Есенина является драма «Пугачев». В ней остро чувствуется влияние художественной теории имажинизма. В «Пугачеве». образов больше, чем нужно. Они сыплются и вылезают из каждой строки. Правда, и здесь они в большинстве случаев выразительны, но содержание далеко не всегда требует их. Строгие критики правы в одном: «Пугачев», конечно, не историческая драма и, вообще, не драма. Это сплошное лирическое излияние самого Есенина, но в этом-то и сила этого выдающегося произведения. «Пугачев» — признание в тяжелом идейном банкротстве» * .
* (Г. Лелевич. Сергей Есенин. Гомель, 1926, стр. 27-29.)
Процитированные нами высказывания о пьесе «Пугачев» типичны для критики двадцатых и тридцатых годов. Современники видели в «Пугачеве» поворот поэта к большим эпическим темам и приветствовали этот его шаг, но они отмечали и неудачу поэта на вновь избранном пути.
В документе, названном «Почти декларация» и относящемся к июню 1923 года, имажинисты писали: «. мы должны признать, что значительные по размеру имажинистские произведения, как-то: «Заговор дураков» Мариенгофа и «Пугачев» Есенина, не больше чем хорошие лирические стихотворения. Пришло время либо уйти и не коптить небо, либо творить человека и эпоху» (V — 227).
Не являясь исторической драмой, пьеса «Пугачев» знаменовала собой отход поэта от характерного для него в годы имажинизма анархического бунтарства, а поэтический образ, который поэт утверждал в «Ключах Марии» как непременное и самое главное условие художественного творчества, не выдержал испытания в столкновении с исторической темой. Это и стало началом разрыва Есенина с имажинистами, началом поисков новых идейно-творческих путей.
«Почти декларация» явилась попыткой подновить провалившиеся эстетические лозунги имажинизма. В документе прямо указывалось: «Малый образ теряет федеративную свободу, входя в органическое подчинение образу целого» (V — 227). Даже большой талант Есенина был бессилен утвердить ложные эстетические теории имажинистов.
Наметившиеся в «Пугачеве» благотворные перемены в сознании поэта получили свое развитие в условиях его зарубежной поездки.
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки: