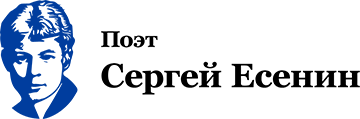Есенин отрывок о любви
24.01.2018Лучшие стихотворения есенина о любви
24.01.2018LiveInternetLiveInternet
—Музыка
—Статистика
Сергей Есенин. Стихи о любви

Мне грустно на тебя смотреть,
Какая боль, какая жалость!
Знать, только ивовая медь
Нам в сентябре с тобой осталась.
Твое тепло и трепет тела.
Как будто дождик моросит
С души, немного омертвелой.
Иная радость мне открылась.
Ведь не осталось ничего,
Как только желтый тлен и сырость.
Для тихой жизни, для улыбок.
Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.
Так было и так будет после.
Как кладбище, усеян сад
В берез изглоданные кости.
И отшумим, как гости сада.
Коль нет цветов среди зимы,
Так и грустить о них не надо.

Айседора Дункан. 1916
Я помню, любимая, помню
Сиянье твоих волос.
Не радостно и не легко мне
Покинуть тебя привелось.
Березовый шорох теней,
Пусть дни тогда были короче,
Луна нам светила длинней.
Пройдут голубые года,
И ты позабудешь, мой милый,
С другою меня навсегда.
Напомнила чувствам опять,
Как нежно тогда я сыпал
Цветы на кудрявую прядь.
И грустно другую любя.
Как будто любимую повесть,
С другой вспоминает тебя.

Айседора Дункан. Пантеон, Афины, 1920.
Голубая кофта. Синие глаза.
Никакой я правды милой не сказал.
Затопить бы печку, постелить постель.
Кто-то осыпает белые цветы.
У меня на сердце без тебя метель.

Вы все, конечно, помните,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
Нам пора расстаться,
Что вам пора за дело приниматься,
Катиться дальше, вниз.
Не знали вы, что в сонмище людском
Я был, как лошадь, загнанная в мыле,
Пришпоренная смелым ездоком.
Что я в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь, что не пойму
Куда несет нас рок событий.
Большое видится на расстоянье.
Когда кипит морская гладь,
Корабль в плачевном состоянье.
За новой жизнью, новой славой
В прямую гущу бурь и вьюг
Ее направил величаво.
Ну кто ж из нас на палубе большой
Не падал, не блевал и не ругался?
Их мало, с опытной душой,
Кто крепким в качке оставался.
Но зрело знающий работу,
Спустился в корабельный трюм,
Чтоб не смотреть людскую рвоту.
И я склонился над стаканом,
Чтоб, не страдая ни о ком,
Что я пред вами напоказ
Себя растрачивал в скандалах.
Что в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
Куда несет нас рок событий.
И чувствую и мыслю по-иному.
И говорю за праздничным вином:
Хвала и слава рулевому!
В ударе нежных чувств.
Я вспомнил вашу грустную усталость.
Я сообщить вам мчусь,
И что со мною сталось!
Сказать приятно мне:
Я избежал паденья с кручи.
Теперь в Советской стороне
Я самый яростный попутчик.
Как это было раньше.
За знамя вольности
Готов идти хоть до Ла-Манша.
С серьезным, умным мужем;
Что не нужна вам наша маета,
Ни капельки не нужен.
Как вас ведет звезда,
Под кущей обновленной сени.
Вас помнящий всегда
С е р г е й Е с е н и н.

Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.
Это золото осеннее,
Эта прядь волос белесых —
Все явилось, как спасенье
Где цветут луга и чащи.
В городской и горькой славе
Я хотел прожить пропащим.
Вспоминало сад и лето,
Где под музыку лягушек
Я растил себя поэтом.
Клен и липы в окна комнат,
Ветки лапами забросив,
Ищут тех, которых помнят.
Месяц на простом погосте
На крестах лучами метит,
Что и мы придем к ним в гости,
Перейдем под эти кущи.
Все волнистые дороги
Только радость льют живущим.
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.
Женщина необычайной красоты встретилась опустошенному и уставшему Есенину после «бегства от Айседоры» и возвращения на Родину. Августа Миклашевская была именно тем человеком, которого жаждала душа поэта. Она умела слушать и понимать, ее взгляд был пропитан лаской и грустью. А Есенин «в первый раз запел про любовь, в первый раз отрекаясь скандалить». Рядом с ней он становился свободным, душа начинала дышать «запахом меда и роз».
Августе Есенин посвятил красивейшие стихи: «Ты такая ж простая как все…», «Дорогая, сядем рядом…», «Ты прохладой меня не мучай…». Но, Августа не могла разделить любовь поэта, считая себя женщиной холодной, не способной на любовь. К тому же ей приходилось разрываться между игрой в театре, которая давала ей средства к существования, и сыном, которого она воспитывала в одиночку. Однако на долгое время Августа оставалась для Есенина тем утешающим островком, тем спасением от бурь и скандалов, его преображающей молитвой.
Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.
Был я весь — как запущенный сад,