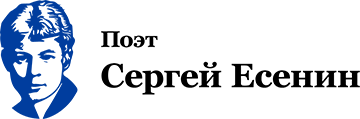Тема поэта и поэзии в творчестве есенина
24.01.2018Есенин известные произведения
24.01.2018Есенин плохой поэт

Сергей Есенин: соприкосновение с тайной
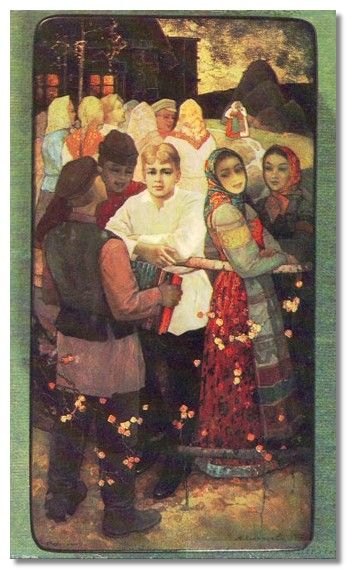 (Начало здесь ) Русский поэт невозможен без грусти и тоски, которые рождаются не из личных обстоятельств или сиюминутного настроения. Великий поэт выражает гораздо более глубокие чувства, не связанные с тем, что с тобой происходит здесь и сейчас, он выражает метафизические чувства.
(Начало здесь ) Русский поэт невозможен без грусти и тоски, которые рождаются не из личных обстоятельств или сиюминутного настроения. Великий поэт выражает гораздо более глубокие чувства, не связанные с тем, что с тобой происходит здесь и сейчас, он выражает метафизические чувства.
Сергей Есенин – поэт глубоко национальный, немыслимый вне и без России. О Есенине написано очень много, но поэт так и остается загадкой и тайной. Его неразгаданность связана с неразгаданностью самой России и русской души.
Поэт настолько близок каждому русскому человеку, что его понимают все: и самый последний хулиган, и самый высоколобый интеллектуал. Есенин, писавший почти исключительно о России, сумел прикоснуться к ее тайне и передать ее не столько словом, сколько настроением, интонацией и самой жизнью.
Как глубоко русский человек, он даже физически не мог жить вне России, что видно по его письмам из Европы и Америки. А главное — Сергей Есенин, как ни один другой русский поэт, смог с необыкновенной силой выразить ощущение метафизической тайны «окаянной» России, не отпускающей его ни на минуту и выливающейся в безотчетную грусть-печаль.
Этой грусти теперь не рассыпать
Звонким смехом далеких лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.
Плач овцы, и вдали на ветру
Машет тощим хвостом лошаденка,
Заглядевшись в неласковый пруд.
Это все, что зовем мы родиной,
Это все, отчего на ней
Пьют и плачут в одно с непогодиной,
Дожидаясь улыбчивых дней.
«Роман без вранья» Анатолия Мариенгофа смог передать все метания Сергея Есенина, пропитанного обездоленностью, тоской, отчаянием, грустью, одиночеством, которые невозможно было заглушить разгулом, вином, женщинами и путешествиями в чужие края. Более того, чем больше он погружался в них, тем сильнее становились его тоска и отчаяние.
…как-то я не ночевал дома. Вернулся в свою «ванну обетованную» часов в десять утра; Есенин спал. На умывальнике стояла пустая бутылка и стакан. Понюхал — ударило в нос сивухой. Растолкал Есенина. Он поднял на меня тяжелые, красные веки.
«Что это, Сережа?… Один водку пил?…» — «Да. Пил. И каждый день буду… ежели по ночам шляться станешь… с кем хочешь там хороводься, а чтобы ночевать дома…». Это было его правило: на легкую любовь он был падок, но хоть в четыре или в пять утра, а являлся спать домой. Мы смеялись: «Бежит Вятка в свое стойло».
Основное в Есенине: страх одиночества. А последние дни в «Англетере». Он бежал из своего номера, сидел один в вестибюле до жидкого зимнего рассвета, стучал поздней ночью в дверь устиновской комнаты, умоляя впустить его.

Но до конца зимы все-таки крепости своей не отстояли. Пришлось отступить из ванны обратно — в ледяные просторы нашей комнаты. Стали спать с Есениным вдвоем на одной кровати. Наваливали на себя гору одеял и шуб. По четным дням я, а по нечетным Есенин первым корчился на ледяной простыне, согревая ее дыханием и теплотой тела.
Одна поэтесса просила Есенина помочь устроиться ей на службу. У нее были розовые щеки, круглые бедра и пышные плечи. Есенин предложил поэтессе жалованье советской машинистки, с тем чтобы она приходила к нам в час ночи, раздевалась, ложилась под одеяло и, согрев постель («пятнадцатиминутная работа!»), вылезала из нее, облекалась в свои одежды и уходила домой.
Дал слово, что во время всей церемонии будем сидеть к ней спинами и носами уткнувшись в рукописи. Три дня, в точности соблюдая условия, мы ложились в теплую постель. На четвертый день поэтесса ушла от нас, заявив, что не намерена дольше продолжать своей службы.
Когда она говорила, голос ее прерывался, захлебывался от возмущения, а гнев расширил зрачки до такой степени, что глаза из небесно-голубых стали черными, как пуговицы на лаковых ботинках. Мы недоумевали: «В чем дело? Наши спины и наши носы свято блюли условия…» — «Именно. Но я не нанималась греть простыни у святых…»

В есенинском хулиганстве прежде всего повинна критика, а затем читатель и толпа, набивавшая залы литературных вечеров, литературных кафе и клубов. Критика надоумила Есенина создать свою хулиганскую биографию, пронести себя хулиганом в поэзии и в жизни.
Я помню критическую заметку, послужившую толчком для написания стихотворения «Дождик мокрыми метлами чистит», в котором он, впервые в стихотворной форме, воскликнул:
«Плюйся, ветер, охапками листьев, Я такой же, как ты, хулиган». Есенин читал эту вещь с огромным успехом. Когда выходил на эстраду, толпа орала: «Хулигана». Тогда совершенно трезво и холодно — умом он решил, что это его дорога, его «рубашка».
Я не знаю, что чаще Есенин претворял: жизнь в стихи или стихи в жизнь. Маска для него становилась лицом и лицо маской. Вскоре появилась поэма «Исповедь хулигана», за нею книга того же названия и вслед, через некоторые промежутки, «Москва кабацкая», «Любовь хулигана» и т. д., и т. д. во всевозможных вариациях и на бесчисленное число ладов.

Ю.Золоторёв. Сергей Есенин
Ни в одних есенинских стихах не было столько лирического тепла, грусти и боли, как в тех, которые он писал в последние годы, полные черной жутью беспробудности, полного сердечного распада и ожесточенности.
В цифрах Есенин был на прыжки горазд и легко уступчив. Говоря как-то о своих сердечных победах, махнул: «А ведь у меня, Анатолий, за всю жизнь женщин тысячи три было». – «Вятка, не бреши». – «Ну, триста». – «Ого!» — «Ну, тридцать». – «Вот это дело».
Любили мы в ту крепкую и тугую юность потолковать о неподходящих вещах — выдумывали январский иней в волосах, несуществующие серебряные пятачки, осеннюю прохладу в густой горячей крови.
Есенин отложил зеркала и потянулся к карандашу. Сердцу, как и языку, приятна нежная, хрупкая горечь. Прямо в кровати, с маху, почти набело (что случалось редко и было не в его тогдашних правилах) написал трогательное лирическое стихотворение. Через час за завтраком он уже читал благоговейно внимавшим девицам:
По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.
Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.
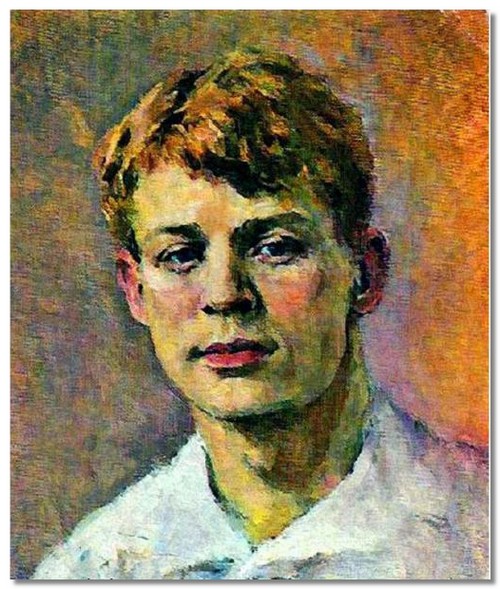
Мы лежали в своем купе. Есенин, уткнувшись во флоберовскую «Мадам Бовари». Некоторые страницы, особенно его восторгавшие, читал вслух. В хвосте поезда вдруг весело загалдели. От вагона к вагону — пошел галдеж по всему составу. Мы высунулись из окна.
По степи, вперегонки с нашим поездом, лупил обалдевший от страха перед паровозом рыжий тоненький жеребенок. Зрелище было трогательное. Надрываясь от крика, размахивая штанами и крутя кудластой своей золотой головой, Есенин подбадривал и подгонял скакуна.
Железный и живой конь бежали вровень версты две. Потом четвероногий стал отставать, и мы потеряли его из вида. Есенин ходил сам не свой. После Кисловодска он написал в Харьков письмо девушке, к которой относился нежно. Оно не безынтересно. Привожу:
«….Трогает меня в этом только грусть за уходящее, милое, родное, звериное и незыблемая сила мертвого, механического. Вот вам наглядный случай из этого. Ехали мы из Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим крики, выглядываем в окно и что же видим: за паровозом, что есть силы, скачет маленький жеребенок, так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его.
Бежал он очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то станции его поймали. Эпизод — для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень многое. Конь стальной победил коня живого, и этот маленький жеребенок был для меня и вымирающим образом деревни и ликом Махно. Она и он в революции нашей страшно походят на этого жеребенка тягательством живой силы с железной…»
А в прогоне от Минеральных до Баку Есениным написана лучшая из его поэм — «Сорокоуст». Жеребенок, пустившийся в тягу с нашим поездом, запечатлен в образе, полном значимости и лирики, глубоко волнующей.
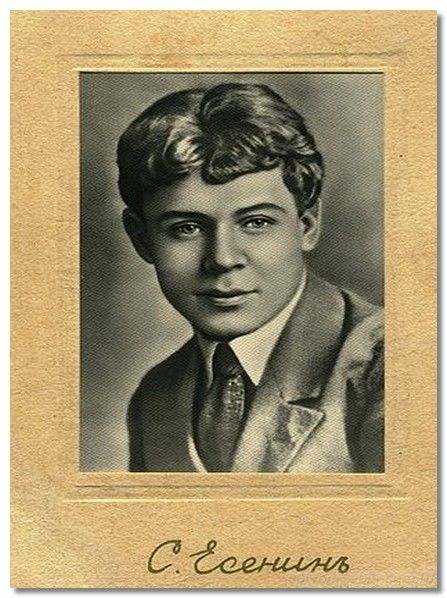
Один Новый год встречали в Доме печати. Есенина упросили спеть его литературные частушки. Василий Каменский взялся подыгрывать на тальянке. Каменский уселся в кресле на эстраде, Есенин — у него на коленях. Начали:
Я сидела на песке
Нету лучше из стихов
Ходит Брюсов по Тверской
Не мышой, а крысиной.
Дядя, дядя я большой,
Скоро буду с лысиной.
Рожа краской питана,
Есть поэт Мариенгоф.
Много кушал, много пил,
Без подштанников ходил.
Нету яре и звон чей

Анатолий Мариенгоф и Сергей Есени
Зашел к нам на Никитскую в лавку человек — предлагает недорого шапку седого бобра. Надвинул Есенин шапку на свою золотую пену и пошел к зеркалу. Долго делал ямку посреди, слегка бекренил, выбивал из-под меха золотую прядь и распушал ее. Важно пузыря губы, смотрел на себя в стекло, пока сквозь важность не глянула на него из стекла улыбка, говорящая: «И до чего же это я хорош в бобре!»
Вечером «Почем-Соль» сетовал: «Не поеду, вот тебе слово, в жизни больше не поеду с Сергеем… Весь вагон забил мукой и кишмишем. По ночам, прохвост, погрузки устраивал… я, можно сказать, гроза там… центральная власть, уполномоченный, а он кишмишников в вагон с базара таскает. Я им по два пуда с Левой разрешил, а они, мерзавцы, по шесть наперли…»
Есенин нагибается к моему уху: «По двенадцати. » — «Перед поэтишками тамошними метром ходит… деньгами швыряется, а из вагона уполномоченного гомельскую лавчонку устроил… с урючниками до седьмого пота торгуется… И какая же, можно сказать, я после этого — гроза… уполномоченный…»
«Скажи, пожалуйста, «урюк, мука, кишмиш». А то, что я в твоем вагоне четвертую и пятую главу «Пугачева» написал, это что?… Я тебя, сукина сына, обессмерчиваю, в вечность ввожу… а он — «урюк! урюк!»…»
Интересно? Поделитесь информацией!
About Тина Гай
Статьи на эту же тему

Эмили Дикинсон. Окончание


Игорь Царев. Сердца сорванная пломба…



Саша Черный: Эмиграция

Александр Черный. Сатирический период


И.А.Чарушин. Особняк Булычева

Детская тема в русской живописи: Серов и Серебрякова
2 Responses to Сергей Есенин: соприкосновение с тайной
Нет, в этом вопросе я вовсе не просвещенная. Гипотез вокруг загадочной смерти много, я совершенно не знаток этого вопроса и даже вникать в это не хочу. Я люблю поэзию Есенина и допускаю, что его могла убрать насильственно, но он и сам делал много для того, чтобы покинуть этот свет как можно раньше. Так что можно сказать, что если и было насилие, то оно скорее всего для него было спасительным. Он был человеком с трагической судьбой и жить ему на этом свете вовсе не доставляло удовольствия. Иначе он бы не пил так безбожно и не пускался во все тяжкие. Он сознательно шел к такому концу. Ему плохо было везде: и в Европе, и в Америке, и в России, но в России ему было все-таки лучше, чем в Европе и Америке.
Безусловно работа, посвященная творчеству великого русского поэта Сергея Есенина раскрывает новые оттенки образа поэта и его творчества., прекрасно полдобраны ссылки
Думаю, что лирика Есенина настолько музыкальна, что сама находит себе музыкальные гармонии и ритмы и почти полностью становится песенной, чего нельзя сказать о многих других поэтов времен коммунистического эксперимента.
Известно, что множество лет Есенин был фактически запрещен. В ОРдессе прозвучали стихи Есенина в полную мощь только в период оккупации, когда отмечали какой-то его юбилей и вышел сборник стихов Есеннина, за наличие которого впоследствии можно было получить срок.
Проблемой особленно в настоящее время является его гибель. Все больше становится свидетельств тому, что смерть Есенина была вынужденной, а вовсе не от «мировой тоски».
Для аргументации попробую привести зхдесь найденное мною в материалах дела рукописное стихотворение, приписываемое Есенину, которое было и опубликовано в журнале «Колокол» в его первом номере хозяином Русского театра при оккупации Василием Вронским. Я сравнивал рукописный вариант, за который студенты Паляница и Шмуклеровская получил по 6 лет лагерей в период ежовщины с журнальнгым и мой вариант собрал наиболее полный текст:
Стихотворение называется «Послание «евангелисту «Демьяну Бедному» Было написано незадолго до трагической гибели поэта:
Я часто думаю: за что Его казнили,
за что Он жертвовал Своею головой?
За то ль, что враг суббот, Он против всякой гнили
Отважно поднял голос свой?
За то ли, что в стране проконсула Пилата,
где культом Кесаря полны и свет, и тень,
Он с кучкой рыбаков из бедных деревень
За Кесарем признал лишь силу злата?
За то ль, что, не жалея сам себя,
Он к горю каждого был милосерд и чуток
И всех благословлял, мучительно любя
И маленьких детей, и грязных проституток?
Не знаю я, Демьян, в евангелии твоем
Я не нашел правдивого ответа.
В нем много бойких слов,- ох, как их много в нем,-
Но слова нет, достойного поэта!
Я не из тех, кто знает лишь попов,
Кто безотчетно верит в Бога,
Кто лоб свой расшибить готов,
Молясь у каждого церковного порога.
Я знаю, что, стремясь по Вечному пути,
Здесь на Земле, не расставаясь с телом
Не мы, так кто-нибудь другой, ведь должен же дойти
Воистину к Божественным пределам?1
И все-таки, когда я в “Правде” прочитал
Неправду о Христе блудливого Демьяна,
Мне стыдно стало так, как будто я попал
В блевотину, извергнутую спьяна.
Я не люблю религии раба,
Покорного от века и до века,
И вера у меня в чудесное слаба:
Я верю в знание и силу Человека!2
Пусть Будда, Моисей, Конфуций и Христос —
Далекий миф, — мы это понимаем, —
Но все-таки нельзя, как годовалый пес
На все и всех захлебываться лаем!
Христос — сын Высшего — за правду был казнен
Пусть это миф, но все ж, когда прохожий
Его спросил: “Кто ты?” — ему ответил Он:
“Сын человеческий”, а не сказал: ”Сын Божий!”
Пусть миф — Христос и мифом был Сократ,
Так что ж от этого? И надобно подряд
Плевать на то, что для людей есть свято?
Тебе знаком, Дамьян, всего один арест,
А ты скулишь: “Ах, крест мне выпал лютый!”
А что, когда б тебе Голгофский дали крест и чашу с едкою
Хватило б у тебя величья до конца
В последний час, как Он примером тоже
Благословлять весь мир под тернием венца
И о бессмертии учить на смертном ложе?
Нет! Ты, Демьян, Христа не оскорбил,
Ты не задел Его своим пером нимало!
Разбойник был, Иуда был —
Тебя лиш только не хватало!
Ты сгустки крови у креста
Копнул ноздрей, как толстый боров.
Ты только хрюкнул на Христа,
Ефим Лакеевич Придворнов!1
Но ты свершил двойной тяжелый грех
Своим дешевым балаганным вздором:
Ты оскорбил поэтов вольный цех
И малый свой талант покрыл позором.
Ведь там, за рубежом, прочтя твои стихи,
Небось смеются над тобой, писательской стряпушей:
— “Еще тарелочку Демьяновой ухи,
Соседушка, мой свет, пожалуйста, покушай!”
А русский мужичок, читая ”Бедноту”,
Где образцовый труд печатался куплетом,
Еще усерднее помолится Христу
И коммунисту “мать” пошлет при этом!
Подпись в материалах дела: Сергей Есенин.
Читая это стихотворение, становится все более отчетливее гипотеза о том, что смерть С.Есенина была не добровольная, а явно вынужденная. Текст стихотворения — прямое доказательство этому. Ясно видны и те, кому нужна была смерть великого поэта.
Во-первых текст стихотворения вовсе не содержит пессимизма и желания смерти, как в некоторых статьях такое подчеркивается для объяснения смерти поэта. Во-вторых, вряд ли как и высказывания того времени С. Есенина могло простить ГПУ
Было бы узнать, (ведь мы с Вами друзья!) Ваше просвещенное мнение, Тина Гай, по данному вопросу. В.Смирнов