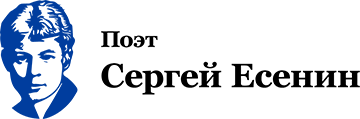Стих есенина береза читать
24.01.2018Непристойные стихи есенина
24.01.2018Есенин стихи отцу
Вечера, посвященные памяти С. А. Есенина — моего отца, начиная с 1950 года проходят регулярно, каждые пять лет.
Первый такой вечер, совсем для «узкого круга», состоялся в московском Доме литераторов, на улице Воровского. Теперь, спустя годы, ярче других в памяти выступление чтеца Н. Ф. Першина. Тогда была жива Татьяна Федоровна — мать Сергея Александровича, моя бабушка. Во время концерта она сидела в первом ряду, и Першин нашел, может быть, еще до начала вечера, удачную мизансцену. В темном зале прожектора выхватили в партере черный платок Татьяны Федоровны, а над ней в сумраке стояла тень Першина. Стихи «Письмо матери» прозвучали тогда как-то удивительно мягко.
Может быть, это только мое впечатление.
Потом на юбилейных вечерах выступали П. И. Чагин, А. Л. Миклашевская, К. Л. Зелинский, мои тетки — Катя и Шура.
Я раньше старался не выступать. Хотя часто, особенно на «локальных» вечерах в некоторых клубах, институтах, меня об этом довольно энергично просили.
По существу, у меня нет воспоминаний. Последний раз отец навестил нас с сестрой Татьяной за четыре дня до своей смерти, а мне тогда было неполных шесть лет. А что может рассказать даже о самых ярких впечатлениях человек четырех-, пяти-, пусть шестилетнего возраста? Конечно, это не воспоминания, а только что-то вроде «туманных картин» «волшебного фонаря», также оставшегося где-то в детстве.
Но в последние годы, когда родных, друзей и знакомых, выступающих на вечерах, почти не осталось — время ведь вещь неумолимая, — я как-то от общих слов, которые мне
все же приходилось говорить по просьбе слушателей, перешел к рассказу об этих «туманных картинах».
Их совсем немного.
Самое первое, что сохранила память, — это приход отца весной 192. а вот какого точно — не знаю, года. Солнечный день, мы с сестрой Таней самозабвенно бегаем по зеленому двору нашего дома. Теперь этого дома нет. Его снесли в 50-х годах. Тогда в белом, купеческого «покроя» здании располагались ГЭКТЕМАС (Государственные экспериментальные театральные мастерские), позднее — училище Театра имени народного артиста республики В. Э. Мейерхольда, второго мужа нашей матери — Зинаиды Николаевны Райх.
Вдруг во дворе появились нарядные, «по-заграничному» одетые мужчина и женщина. Мужчина — светловолосый, в сером костюме. Это был Есенин. С кем? Не знаю. Нас с сестрой повели наверх, в квартиру. Еще бы: первое, после долгого перерыва свидание с отцом! Но для нас это был, однако, незнакомый «дяденька». И только подталкивания разных соседок, нянь, наших и чужих, как-то зафиксировали внимание — «папа». Самое же слово было еще почти непонятно. В роли «папы» выступал досель Всеволод Эмильевич Мейерхольд, хотя воспитывали нас смело, тайн рождения не скрывали, и мы знали, что Мейерхольд — «папа второй», ненастоящий, а «первый папа» был для нас незримой личностью, имя его изредка произносилось взрослыми в разговорах.
Есенин сел с нами за прямоугольный детский столик, говорил он, обращаясь по большей части к Тане. После первых слов, что давно забыты, он начал расспрашивать о том, в какие игры играем, что за книжки читаем. Увидев на столе какие-то детские тоненькие книжицы, почти всерьез рассердился.
— А мои стихи читаете?
Помню общую нашу с сестрой растерянность. И наставительное замечание отца:
— Вы должны читать и знать мои стихи.
Потом, когда появились обращенные к детям стихи «Сказка о пастушонке Пете», помню слова матери о том, что рождение их связано именно с этим посещением отца, который приревновал своих детей к каким-то чужим, не понравившимся ему стихам. Да, наверно, это было так.
Когда он ушел, толпившиеся внизу соседки срочно принялись выяснять, что он принес нам в подарок. Однако
подарков, к общему негодованию, не было. А тем, кто особенно возмущался, мать дала категорическое разъяснение: «Есенин подарков детям не делает. Говорит, что хочет, чтобы любили и без подарков». И, пожалуй, они были правы. Впрочем, мать не придерживалась этого правила и часто баловала нас подарками.
Четко осталась перед мысленным взором сцена, когда в нашей столовой между отцом и матерью происходил энергичный деловой разговор. Он шел в резких тонах. Содержания его я, конечно, не помню, но обстановка была очень характерная: Есенин стоял у стены, в пальто, с шапкой в руках. Говорить ему приходилось мало. Мать в чем-то его обвиняла, он защищался. Мейерхольда не было. Думаю, что по инициативе матери. Несколько лет спустя, прочитав строки:
Вы всё, конечно, помните,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
В лицо бросали мне, 1 —
я наивно спросил маму: «А что, это о том случае написано?» Мать улыбнулась. Вероятнее всего, характер разговора, его тональность были уже как-то традиционны при столкновении двух таких резких натур, какими были мои отец и мать.
В памяти сохранилось несколько сцен, когда отец приходил посмотреть на нас с Таней. Как все молодые отцы, он особенно нежно относился к дочери. Таня была его любимицей. Он уединялся с ней на лестничной площадке и, сидя на подоконнике, разговаривал с ней, слушал, как она читает стихи.
Домочадцы, в основном родственники со стороны матери, воспринимали появление Есенина как бедствие. Все эти старики и старушки страшно боялись его — молодого, энергичного, тем более что, как утверждала сестра, по дому был пущен слух, будто Есенин собирается нас украсть.
Таню отпускали на «свидание» с трепетом. Я пользовался значительно меньшим вниманием отца. В детстве я был очень похож на мать — чертами лица, цветом волос. Татьяна — блондинка, и Есенин видел в ней больше своего, чем во мне.
Последний приход отца, как я уже сказал, состоялся за несколько дней до рокового 28 декабря. Этот день описан многими. Отец заходил к Анне Романовне Изрядновой, еще куда-то. Уезжал в Ленинград всерьез. Наверное, ехал жить и работать, а не умирать. Зачем иначе ему было возиться с огромнейшим, тяжеленным сундуком, набитым всем его скарбом. Это деталь, по-моему, существенная.
Отчетливо помню его лицо, его жесты, его поведение в тот вечер. В них не было надрыва, грусти. В них была какая-то деловитость. Пришел проститься с детьми. У меня тогда был детский диатез. Когда он вошел, я сидел, подставив руки под лампочку, горевшую синим светом, которую держала няня.
Отец недолго пробыл в комнате и, как всегда, уединился с Татьяной.
Хорошо помню дни после сообщения о смерти отца. Мать лежала в спальне, почти утратив способность реального восприятия. Мейерхольд размеренным шагом ходил между спальней и ванной, носил воду в кувшинах, мокрые полотенца. Мать раза два выбегала к нам, порывисто обнимала и говорила, что мы теперь сироты.
Но в детстве смерть близких воспринимают своеобразно. Верят на слово тому, что человека больше не увидят, но как это может быть — еще не осознают. Так и мы с сестрой. Помню, что тоже плакали, но, наверное, из-за того, что плакала мама. Потом был Дом печати (ныне — Центральный дом журналистов), Таня читает стихи. Какие-то тетеньки и дяденьки поочередно подходят и что-то говорят с сочувствием. Еще непонятный мир: Ваганьковское кладбище. Деловитые, краснощекие могильщики. Земля, что заставили кинуть в яму детской рукой. И где-то без логической связи — настольная лампа в маминой спальне. Бутылка вина. Мать как-то спокойнее, тише. Говорит, что завтра — Новый год. Ее младшая сестра — наша тетка Александра Николаевна — куда-то собирается на встречу этого Нового года.
Вот, пожалуй, и все, что я помню сейчас. Возможно, кое-что еще сохранялось в памяти в больших подробностях, когда мне было 20, 25, 30 лет. Как-то я записал все, что помнил. Но записи эти затерялись где-то в моих домашних архивах.
Конечно, позднее я неоднократно расспрашивал мать об отце. Она рассказывала сдержанно. Не раз разговаривал об отце с Софьей Андреевной Толстой. Она принимала меня
довольно тепло. Просила прочесть стихи, которые я в то время изредка писал.
Много рассказывала об отце и матери, об их продолжавшихся, несмотря на разрыв, встречах большая подруга матери Зинаида Вениаминовна Гейман. Когда она умерла, оказалось, что после нее остались толстые тетради дневниковых записей. В этих записях довольно много о Есенине и Райх, об их жизни в 1918 году.
Довольно забавен был рассказ деда, отца матери, о ее замужестве. В тихий Орел, где тогда жили родители матери, в грозовое лето 1917 года пришла телеграмма: «Выхожу замуж, вышли сто. Зинаида». Отец и мать, незадолго до этого познакомившиеся, отправились в путешествие. Им было тогда 22 и 23 года. Даже неполных.
«В конце лета приехали трое в Орел, — рассказывал дед. — Зинаида с мужем и какой-то белобрысый паренек. Муж — высокий, темноволосый, солидный, серьезный. Ну, конечно, устроили небольшой пир. Время трудное было. Посидели, попили, поговорили. Ночь подошла. Молодым я комнату отвел. Гляжу, а Зинаида не к мужу, а к белобрысенькому подходит. Я ничего не понимаю. Она с ним вдвоем идет в отведенную комнату. Только тогда и сообразил, что муж-то — белобрысенький. А второй — это его приятель, мне еще его устраивать надо». Дед, как все деды, любил солидность и основательность. Мальчишеский вид Сергея Александровича его обескуражил.
Рассказывала мне об отце и Анна Романовна Изряднова — его первая любовь, мать его первого сына — Юры, погибшего в 1938 году. Удивительной чистоты была женщина. Удивительной скромности. После того как я остался один, Анна Романовна приняла в моей судьбе большое участие. В довоенном 1940 и в 1941 годах она всячески помогала мне — подкармливала меня в трудные студенческие времена. А позднее, когда я был на фронте, неоднократно присылала посылки с папиросами, табаком, теплыми вещами. Наиболее интересное из ее рассказов уже известно. Хочу только передать маленькую историю с папиросной коробкой Есенина.
В тот же день, что и к нам, Сергей Александрович пришел к Анне Романовне, чтобы проститься с Юрой. Он оставил на столе коробку папирос. Курил он «Сафо». Были такие папиросы высшего сорта, с женщиной в тунике на коробке. В коробке оставалось, как говорила Анна Романовна, несколько папирос. Их выкурил Юрка. А одну оставил на память. Коробка была семейной реликвией.
В феврале 1937 года на шумной вечеринке мы простились с Юрой, который уходил в армию (я очень дружил с ним).
В 1941 году, в ноябре, в тяжелые для Москвы дни, я пошел добровольцем в Красную Армию. Отправка задержалась, и несколько дней я все ходил по опустевшему городу — прощался с ним. А потом у Анны Романовны рассматривал разные отцовские реликвии. Вынули и коробку «Сафо». Ей тогда было уже 16 лет. Папироса высохла, и табак начинал высыпаться. По торжественности случая я выкурил в этот день, 5 декабря 1941 года, последнюю папиросу отца.
Кстати, о есенинских реликвиях, о некоторых его личных вещах, письмах, рукописях. Большая часть того, что осталось после совместной жизни, и того, что было с отцом в «Англетере», хранилось у моей матери.
Конечно, в первые годы многие из этих вещей получили чисто практическое применение. Кое-что цело и по сей день. Цела у меня темно-голубая в крапинку косоворотка Есенина. Она осталась еще от времен совместной жизни родителей.
В войну погибло очень много писем, записок, деловых бумаг отца. Они хранились у нас на даче вместе с другими бумагами. Я был на фронте, сестра эвакуировалась в Ташкент да так и осела там. Все наши родственники со стороны матери умерли в годы войны. Дача осталась пустовать. Дважды ее самовольно заселяли. Весь архив свалили в сарай. Там он лежал несколько лет и зим, в мороз и зной.
Как-то после ранения, после госпиталя, уже в самом конце войны, я, будучи на короткой побывке в Москве, заехал на дачу. Весь архив был в плохом состоянии. За несколько часов, что я был на даче, мне удалось кое-что выбрать из этой смерзшейся груды. Небольшое количество бумаг хранится у меня. Была у меня библиотека первых изданий Есенина — много уникальных книг. Целую связку забрал с собой и таскал по окопам и землянкам, пока их все до единой не «зачитали» мои однополчане. К счастью, большая часть книг осталась в Москве, некоторые и поныне у меня.
В Константинове я был несколько раз до войны. Один из них — летом 1939 года. Погибла моя мать. За мной приехали, не объясняя причин, предложили следовать. Ситуация острая. Бабушка уговорила представителя власти дать мне перекусить. Воспользовавшись моментом, шепотом
спросила: «Ты ничего за собой не знаешь?» Я поспешил уверить ее, что нет, не знаю. Затолкала мне в чемодан всякой снеди и проводила до околицы.
У меня было немало любительских снимков бабушки — я тогда увлекался фотографией. Но в войну именно эта пара «катушек» пропала. Я печатал их на «дневной» бумаге. Закрепителя не было, и снимки канули в вечность.
В дождливое лето 1950 года я поехал на родину «отчич и дедич». Меня всегда интересовал вопрос «происхождения таланта» отца. Когда мне было 16, 18, 19 лет, я много времени проводил среди родни и на рыбалке. Но в 30 лет я решил разобраться в этом вопросе основательно.
Бабушка Татьяна Федоровна была умудренной жизнью старухой. Четверть века, что прошла с 1925 года, была освящена почитанием и уважением многочисленных поклонников поэзии Есенина, навещавших ее в Константинове, да и в Москве. Все это, по-видимому, не прошло бесследно. В ней были степенность и какая-то особая мудрость. Ко мне она относилась хорошо. Любила иногда на чем-то испытать. Помнится, однажды, еще в тридцать восьмом году, подвела меня к очень толстому чурбаку — в два с половиной обхвата — «Наколи дров». Колуна не было, был только топор, и я намучился с этим чурбаком. Зашел в избу, прилег отдохнуть, покурить. Выхожу. чурбак расколот. А бабушка с улыбкой говорит мне: «А я его клинышком». За самоваром рассказывала: «Отец Сергея (Александр Никитич) совсем не годился для крестьянского дела. Лошадь как следует запрячь не мог. Любил помечтать, посидеть. В город уехал именно потому, что не ладилось у него крестьянское дело. А что мясником был, так это он только с мертвым мясом дело имел. Никого не губил». Вот эта мечтательность, какое-то поэтическое восприятие мира, видимо, и легли как большая и важная составная часть в тот человеческий сплав, который потом был осенен талантом. Ну, а Татьяна Федоровна дала отцу настойчивость, уверенность, сметку, определенную твердость, без которых была бы немыслима и сила таланта Сергея Александровича, и его «поход» в Петербург за признанием.
Безусловно, были у Есенина и неудачи, и, пожалуй, немалые. Он с трудом и слабо писал тогда, когда не чувствовал почвы под ногами. Но это не мешает мне считать также, что лучшее из лирики Есенина — абсолютно неповторимо в своей красоте. И никогда никем не будет превзойдено. Не потому, что он слишком велик. Просто потому, что никогда больше не произойдет такого сочетания
всего того, что родило Есенина: времени, характера, биографии, таланта. Иные будут талантливее, но им выпадет другое время, и жизнь они будут воспринимать иначе.
Непросто идти по жизни с фамилией Есенин. Порой у людей, заинтересованных поэзией отца, возникает почти болезненное любопытство, связанное с десятками притчей, ходящих и до сих пор. Но с этой фамилией мне удалось лучше увидеть, какой трудный, но славный путь прошли стихи отца, его имя. И я твердо знаю, что вопрос, который мучил Есенина под конец, — нужна ли его поэзия, — получил проверенный десятилетиями ответ: да, нужна!