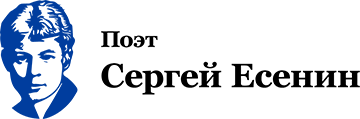Сергея есенина 48
24.01.2018Сергей есенин письмо к женщине стих читать
24.01.2018Хроника сергея есенина
Счетчик посещений
СИДОРИНА Н. Радуйся закланию своему… Хроника жизни Сергея Есенина (трагедия в трех действиях)
В кафе поэтов на Тверской.
Маленькие изящные столики, под стеклянными покрытиями стихи и рисунки художников. На стенах надписи, рисунки.
Рисунок красной лодки, под ним строки.
Кто-то повесил пустую птичью клетку, черные штаны и рваный рыжий сапог. На эстраде вышка в виде усеченной пирамиды с небольшой площадкой наверху. На площадку ведут ступени. Занавес чрезвычайно яркий из зеленых и алых полос. На эстраде выступают поэты, докладчики, иногда играет оркестр. Звучат романсы, фокстроты. В зале поэты, чекисты с наганами, проститутки. Атмосфера душная (военная).
Начало действия. полумрак, полупустое кафе. За одним из столиков компания имажинистов, за другим — «мужиковствующие» и сестры Есенина (на противоположном конце сцены). Входит Давний приятель.
М а р и е н г о ф. Догнал славу. На следующий день после смерти догнал славу.
Д а в н и й п р и я т е л ь. Какая книга может получиться! О нем! Напишем воспоминания.
Р ю р и к И в н е в. Он возбуждал во мне всегда самые разнообразные чувства.
Д а в н и й п р и я т е л ь. Да и в газетах пишут по-разному. Я вырезки делаю. (Достает из портфеля газеты.) Вот, пожалуйста. 31 декабря 1925 года. (Читает.) «Жизнь Есенина материала для трагедии не давала. Ему везло. Любимый, рано признанный, он легко, как свое тело, нес тяжелеющую с каждым днем славу. Но трагедия нужна была Есенину как стимул для творчества. Он ее сочинил. Биографию Есенина писать нет надобности. Он сам ее написал — стихами, и написал так убедительно, что поверил в нее… У Пушкина был Дантес. У Есенина Дантеса не было. Он сам нанес себе удар. Кого винить? На кого сердиться? На тебя, Сережа? На любимых не сердятся». Эмиль Герман. Или двумя днями раньше в «Красной газете»:
«Есенин был захвачен в прочную мертвую петлю. Никогда не бывший имажинистом, чуждый дегенеративным извергам, он был объявлен вождем школы, родившейся на пороге лупанария и кабака, и на его спасительном плоту всплыли литературные шантажисты, которые не брезговали ничем… Дегенеративные от рождения, нося в себе духовный сифилис, тление городских притонов, они оказались более выносливыми и благополучно существуют до сих пор, а Есенина сегодня уже нет… Я знаю, что перед этой раскрытой могилой будет сказано много сладких слов и будут писаться “дружеские” воспоминания. Я их писать не буду. Мы разошлись с Сергеем в 18-м году — слишком разно легли наши дороги. Но я любил этого казненного дегенератами мальчика искренно и болезненно… И мой нравственный долг предписывает мне сказать раз в жизни обнаженную правду и назвать палачей и убийц — палачами и убийцами, черная кровь которых не смоет кровяного пятна на рубашке замученного поэта». Борис Лавренев. Звучит вроде бы как намек?
Р ю р и к И в н е в. Не может быть. Дай взгляну. Ну, вот ты пропустил. «Может быть, в последнюю минуту прояснения ему вспомнилось “рязанское небо”, и осознанная невозможность вернуться к нему заставила измученного оборвать “непутевую жизнь”».
Д а в н и й п р и я т е л ь. Так ведь это редактор мог вставить.
М а р и е н г о ф. За этот бред ответит автор. Имажинисты потребовали третейского суда.
Д а в н и й п р и я т е л ь. Я думаю, он кончится ничем. Но какая речь Троцкого!
Во МХАТе читал Качалов.
«Мы потеряли Есенина — такого прекрасного поэта, такого свежего, такого настоящего. И так трагически потеряли! Он ушел сам, кровью попрощавшись с необозначенным другом, — может быть, со всеми нами. Поразительны по нежности и мягкости эти его последние строки. Си ушел из жизни без крикливой обиды, без позы протеста — не хлопнув дверью, а тихо прикрыв ее рукою, из которой сочилась кровь. В этом жесте поэтический и человеческий образ Есенина вспыхнул незабываемым прощальным светом…»
Р ю р и к И в н е в. Как сказала одна моя знакомая, чтоб такую речь заслужить, надо умереть.
П и м е н К а р п о в. Вот это точно.
Д а в н и й п р и я т е л ь (читает дальше).
«Его лирическая пружина могла бы развернуться до конца только
в условиях гармонического, счастливого, с песней живущего общества, где не борьба царит, а дружба, любовь, нежное участие. Такое время придет…»
П и м е н К а р п о в. Стоим на пороге.
Д а в н и й п р и я т е л ь (читает).
«Поэт погиб потому, что был несроден революции (пауза). Но во имя будущего она навсегда усыновит его. К смерти Есенин тянулся почти с первых годов творчества, сознавая внутреннюю свою незащищенность. В одной из последних песен Есенин прощается с цветами.
Я видел вас и видел землю,
И эту гробовую дрожь,
Как ласку новую, приемлю».
Д а в н и й п р и я т е л ь. И далее.
«И в нашем сознании скорбь острая и совсем еще свежая умеряется мыслью, что этот прекрасный и неподдельный поэт по-своему отразил эпоху и обогатил ее песнями, по-новому сказав и о любви, и о синем небе, упавшем в реку, о месяце, который ягненком пасется в небесах, и о цветке неповторимом — о себе самом».
П и м е н К а р п о в. Неужели мы те самые цветы, которые сами себя срезают и ставят в вазочки?
Д а в н и й п р и я т е л ь. Читаю дальше.
«Пусть же в чествовании поэта не будет ничего упадочного и расслабляющего. Пружина, заложенная в нашу эпоху, неизмеримо могущественнее личной пружины, заложенной в каждого из нас. Спираль истории развернется до конца. Не противиться ей должно…»
Р ю р и к И в н е в. Противился, противился.
Д а в н и й п р и я т е л ь (продолжает). «. а помогать сознательными усилиями мысли и воли. Будем готовить будущее…
Умер поэт. Да здравствует поэзия!»
П и м е н К а р п о в. Позволительно спросить, какая?
К л ю е в. Да не встревай ты, Пимен. Итак, все уже ясно.
И Смольный не сварит кутью.
К л ю е в. Вот ношу сапоги. Сереженька подарил.
Д а в н и й п р и я т е л ь. Сапоги отличные. А как насчет воспоминаний, Николай Алексеевич? Первая мировая война. Царское Село. Концерты для раненых. Говорят, царица ему даже золотые часы по- дарила. Там какое-то общество было. «Возрождение художественной Руси», что ли?
К л ю е в. Какое такое общество? Какие-такие часы? (Достает свои.) Остановилось время, миленькие, и пошло вспять, как его не стало. (П. Карпову.) А с Настенькой-царевной гулял по саду. Что было, то было. Написатъ-то о нем я уже все написал. (Выходит на сцену.)
В спинжаке, с кулаками в арбуз, —
Даль повыслала отрока вербного
С голоском слаще девичьих бус.
Про стога, про отжиточный сноп;
Зашипели газеты. «Татария.
И Есенин — поэт-юдофоб».
Ворон ты, я же тундровый гусь.
Осеняет Словесное дерево
Избяную, дремучую Русь.
Надо мной древословный навес,
И страна моя, Белая Индия,
Преисполнена тайн и чудес.
Служит птицам и правды сынам;
Книги-трупы, сердца папиросные —
Ненавистный творцу фимиам.
Се с т р а Ш у р а. Наше Константиново было тихое, чистое, утопающее в зелени село.
С е с т р а К а т я. Барский сад с двухэтажным домом занимал у нас часть села и подгорье до самой реки.
С е с т р а Ш у р а. Основным украшением была церковь, стоящая в центре. За церковью на высокой горе старое кладбище, каменная часовня. Зимой в сильную метель… раздавались редкие удары большого колокола (колокольный звон)… И невольно думалось о путниках, застигнутых этой непогодой в поле или в лугах и сбившихся с дороги. Это им, оказавшимся в беде, посылал свою помощь этот мощный колокол… В воскресные и праздничные дни этим колоколом сзывали народ к обедне и всенощной.
О пожаре в нашем селе извещал колокол средний… Медленным грустным перебором всех колоколов провожали человека в последний путь.
Дедушка наш, Никита Осипович Есенин, был человеком набожным и в молодости готовился уйти в монастырь, за что и получил прозвище Монах. Это прозвище перешло на все его потомство, да так
и осталось за нашей семьей. До самой смерти Сергея нас почти не называли по фамилии, мы все были Монашкины.
С е с т р а К а т я. Вся округа знала Федора Андреевича Титова (нашего дедушку по матери).
Умен в беседе, весел в пиру и сердит в гневе, дедушка умел нравиться людям.
В начале весны дедушка уезжал в Питер и плавал на баржах до глубокой осени… В благодарность Богу за удачное плавание дедушка поставил перед своим домом часовню. У иконы Николая Чудотворца
под праздники в часовне всегда горела лампада.
После расчета с Богом у дедушки полагалось веселиться. Бочки браги и вино ставились около дома.
Дед говорил: — Пейте! Ешьте! Веселитесь, православные! Нечего деньгу копить, умрем — все останется. Медная посуда. Ангельский голосок! Золотое пение. Давай споем! (Звучит песня.)
М а р и е н г о ф (с эстрады). 1918 год принес новые песни.
Богу в юродивый взор.
Вот на красном черным —
Теплый августовский день. Мой стол в издательстве у окна. По улице ровными каменными рядами идут латышские стрелки. Впереди стяг: «Мы требуем массового террора».
Меня кто-то легонько тронул за плечо. Я поднял голову. Передо мной паренек в белой шелковой рубашке и в светло-синей поддевке. Волосы волнистые с золотым отблеском. Большой завиток как будто небрежно (но очень нарочно) падает на лоб. Прямо молоденький хорошенький парикмахер из провинции. И только голубые глаза (не очень большие и не очень красивые) делают лицо умнее и завитка, и синей поддевки, и вышитого, как русские полотенца, ворота шелковой рубашки… Я пригласил его к себе в гости. Он стал бывать у меня. Приходили Вадим Шершеневич, Рюрик Ивнев и другие. Завелись толки о новой поэтической школе образа. Возник имажинизм.
Ш е р ш е н е в и ч (с эстрады кафе, развалясь на вышке). Аритмичность, аграмматичностъ и бессодержательность — вот три кита поэзии грядущего завтра, которое уже приоткрыло нам свою волосатую грудь. Национальная поэзия — это абсурд, ерунда, признавать национальную поэзию — это то же самое, что признавать поэзию крестьянскую, буржуазную и рабочую. Нет искусства классового и нет искусства национального… Можно прощать национальные черты поэта (Гоголь), но любить его именно за это — чепуха… Любовь к родине — это плохая сентиментальность.
Е с е н и н (с эстрады кафе).
Вся наша жизнь есть не что иное, как заполнение большого, чистого полотна рисунками.
Северный простолюдин не посадит под свое окно кипариса, ибо знает закон, подсказанный ему причинностью вещей и явлений. Он посадит только то дерево, которое присуще его снегам и ветру…
У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому они так и любят тот диссонанс, который впита- ли в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния.
У Анатоля Франса есть чудный рассказ об одном акробате, который выделывал вместо обыкновенной молитвы разные фокусы на трапеции перед Богоматерью. Этого чувства у моих собратьев нет. Сии ничему не молятся, и нравится им только одно пустое акробатничество, в котором они делают очень много головокружительных прыжков, но которые есть не больше, не меньше, как ни на что не на- правленные выверты.
Но жизнь требует только то, что ей нужно…
Ш н е й д е р (как бы не обращая внимания на эти слова). Нет, нет.
Дружил он, кажется, только с одним Мариенгофом. Жили они вместе в одной комнате, рядом с театром Корша, в Богословском переулке. Вместе щеголяли в новеньких блестящих цилиндрах. Впрочем,
эксцентричность эта объясняется весьма прозаически. Очутившись, уже не помню почему, в Петрограде без шляпы, Есенин и Мариенгоф безуспешно обегали магазины. И вдруг обнаружили сиротливо стоящие на пустой полке цилиндры. Один Есенин немедленно водрузил на голову, а Мариенгофу с его аристократическим профилем и «сам Бог велел» носить цилиндр. Это была эпоха Есенина и Мариенгофа.
М а р и е н г о ф. Наш новый сборник мы так и назовем: «Эпоха Есенина и Мариенгофа». (Блюмкину.) Яша, достань бумагу. Ведь ты вольнодумец.
Б л ю м к и н. Разберемся.
М а р и е н г о ф. Яша, ты сам говорил, что ведь Лев Давидович интересуется современной литературой.
Ш е р ш е н е в и ч. Имажинизмом.
Б л ю м к и н. Даже очень интересуется.
М а р и е н г о ф. Ну вот. А Сергея ты знаешь давно…
Б л ю м к и н. Это на что ты намекаешь? Просто моя Тася с его Зинаидой Райх общалась.
М а р и е н г о ф. Ну, Райх — это в прошлом, хоть они и венчаны.
Ш е р ш е н е в и ч. Как сказать. Эти райхитические ножки всюду мелькают. Вон за столиком она сидит с Мейерхольдом.
М а р и е н г о ф. Всеволод Эмильевич, мы вызвали вас на диспут. Вы не забыли?
М е й е р х о л ь д. Непременно. (Направляясь к выходу с Зинаидой Райх.) Ребята, приходите на мою лекцию о биомеханике. Бабахнем!
Б л ю м к и н. А что это такое?
Ш е р ш е н е в и ч. Новое мышление. акробатика, гимнастика и клоунада.
М а р и е н г о ф. Новая система. У Бога, конечно, — чистейший идеализм! А у него, у сатаны, — чистейший материализм! Бабахнем!
Б л ю м к и н. Тогда почему вы с ним дискутируете?
Ш е р ш е н е в и ч. У каждого должна быть своя позиция, Яша.
Б л ю м к и н. Одним словом, не лыком шиты, как сказал бы ваш друг Есенин.
Ш е р ш е н е в и ч. Он от дедушки ушел, он от бабушки ушел…
Б л ю м к и н. А дедушка — это Клюев, надо полагать. (Мариенгофу.) Ты вроде говорил, они переписываются.
М а р и е н г о ф. Клюев никак не может успокоиться. Бедолага. Сидит в своей Олонецкой губернии голодный и ругает наш имажинизм.
Б л ю м к и н. Бездарность. Глина.
Ш е р ш е н е в и ч. Твердая глина.
Б л ю м к и н. Зато колесо не увязнет. Аида! (Исчезают.)
Д а в н и й п р и я т е л ь. Сергей Александрович! Неужели вы после всего этого не порвете с этой имажинистской. Вы знаете, как они почтили память Блока? «Слово о дохлом поэте».
Е с е н и н. Обязательно порву… Обязательно, ну, честное слово.
Д а в н и й п р и я т е л ь. Так у них там еще и Блюмкин подвизается.
Е с е н и н. Входит в «Ассоциацию вольнодумцев». Секретарь Троцкого.
Д а в н и й п р и я т е л ь. Сергей Александрович…
Е с е н и н. Я же сказал, порву.
Не расстреливал несчастных по темницам.
Я всего лишь уличный повеса,
Улыбающийся встречным лицам.
Б л ю м к и н. Жизнь людей в моих руках, подпишу бумажку — через два часа нет человеческой жизни. Я как-то так размышлял, а один и донес на меня Дзержинскому, письмечишко накропал. Думает, я не знаю, а я все знаю и буду мстить всеми силами. Доносчик.
Е с е н и н. Это Мандельштам-то?
Б л ю м к и н. А ты откуда знаешь? Не от Бениславской ли.
Е с е н и н. Галя — мой секретарь.
Б л ю м к и н. Ну, пока к ней претензий нет.
Б е н и с л а в с к а я. Сергей Александрович, вот подпишите, пожалуйста. Тут вам и гонорар хороший причитается.
Е с е н и н (подписывая). Спасибо, милая Галя. Ну что бы я делал без вас. (Тихо.) Галя, но как женщина вы мне не нравитесь. (Отходит.)
Б л ю м к и н. А ты, Галя, не расстраивайся. Кто с нами, тому нечего расстраиваться. Вот ты в Кремле жила, а с Левой Седовым, сыном Троцкого, не познакомилась. Так я тебя познакомлю. Люблю завязывать узлы. Все мы жертвы своего времени.
Е с е н и н (приятелю). Нет, писатель должен совершить подвиг. А все остальное — так, слова.
Б л ю м к и н. Сережа, так у тебя все впереди. И подвиг. А если надо, то мы тебе и поможем с подвигом-то. Но только двигайся в нужную революции сторону. А пока вот почитай. Я ведь тоже стихи пишу. Мариенгоф обещал в «Гостинице для путешествующих в прекрасное» напечатать с твоего согласия. Ну, мне пора на Лубянку. А что, ребята, айда со мной? Посмотреть? Эх, безвольные, слабые люди. В лицо революции надо смотреть широко раскрытыми глазами. Галя, ты одна человек сильный и настоящий. До встречи.
Б е н и с л а в с к а я. Пустобрех.
Блюмкин сталкивается в дверях с Мариенгофом.
Блюмкин лезет целоваться. Исчезает.
М а р и е н г о ф. Романтик.
Д а в н и й п р и я т е л ь. Вы оба — мясорубки.
М а р и е н г о ф.
Святость хлещем свистящей нагайкой
И хилое тело Христа на дыбе
Вздыбливаем в Чрезвычайке.
Ш н е й д е р. Школа гармонического развития американской танцовщицы Айседоры Дункан объявляет прием на платные курсы по адресу: Пречистенка, 20. Дети занимаются два раза в день. По утрам гимнастикой, вечером танцевальными движениями. Утренний урок ведет сотрудница Дункан, Ирма. (На сцене Ирма Дункан и дети). Проходятся движения для рук, ног, головы и корпуса. Есть силовые упражнения, упражнения на гибкость и легкость. Но и здесь все упражнения исходят из естественных движений человека. Никакой «красивости» и «изыска». Под конец урока дети становятся в пары и обходят зал с пением «Интернационала». И под пение уходят в свой интернат.
Появляется Дункан в красном легком одеянии.
Д у н к а н (подняв руки вверх). I am red! red! Товарищи: спич. Я бежала от коммерции. Свободный дух в освобожденном теле. Гармоничная танцующая масса. Ваше чудо обновит мир! Любовь, гармония, товарищество, братство! Массовые занятия на арене Крас- ного стадиона. Я еще плохо знаю политику, но думаю, уже сейчас надо давать народу многие радости за то мученичество, которое переживала Россия.
Ш н е й д е р. Да, здесь среди снегов забьют фонтаны радости благодаря всей этой гуманитарной помощи. Но, как уже говорилось, наше счастье пока суровое, счастье на костре. Нам звонят, расспрашивают, инструктируют. Приобщайтесь, приобщайтесь к Великой Школе Танца.
Д у н к а н. Черни хлеб, черни каша, но тысячу детей и большой зал… надо.
Г о л о с и з з а л а. Крепостной балет Луначарского.
Ш н е й д е р. Мы — ваша фаланга энтузиастов, будущие инструкторы. Все, все сделаем, правительство поможет. Нам обещали. Ведь мы закладываем основы нового небывалого быта. И напрасно, товарищи, кто-то все это называет крепостным балетом Луначарского. И мы прекрасно осведомлены, кто так говорит. Приобщайтесь к Великой Школе. Я лично отвечаю за светомузыку.
Д у н к а н. За-ла-тая га-ла-ва! (Целует в губы.) Ангель! (Целует еще раз.) Черт! (К ним подходит Шершеневич с Ильей Шнейдером.)
Ш е р ш е н е в и ч (обращаясь к Есенину). Сергей, познакомься, Илья Шнейдер, новый импресарио Изадоры. В курсе всех дел и планов. Кстати, он же переводчик.
Е с е н и н. А мы друг друга понимаем. Моя — твоя, моя — твоя… (Жестикулирует руками.)
Д у н к а н. Мичательно. За русски революс! (Поднимает бокал.) Ecoter. Я будет тансоват seulement для русски революс. C’est bon русски революсс! (Все пьют.) Есенин за-ла-тая га-ла-ва. Не черт.
Есенин (читает монолог Хлопуши).
Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам?
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.
Я три дня и три ночи искал ваш умет,
Тучи с севера сыпались каменной грудой.
Слава ему! Пусть он даже не Петр!
Чернь его любит за буйство и удаль.
Я три дня и три ночи блуждал по тропам,
В солнце рыл глазами удачу,
Ветер волосы мои, как солому, трепал
И цепами дождя обмолачивал.
Но озлобленное сердце никогда не заблудится,
Эту голову с шеи сшибить нелегко.
Оренбургская заря красношерстной верблюдицей
Рассветное роняла мне в рот молоко.
И холодное корявое вымя сквозь тьму
Прижимал я, как хлеб, к истощенным векам.
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.
Д у н к а н (нехотя, вставая с дивана). Он читаль мне свои стихи. Я ничего не поняль, но я слышу, это музыка…
Ш н е й д е р. Есенин неотступно следовал за ней. Когда мы вышли на Садовую, было уже совсем светло. Я оглянулся. ни одного извозчика. Вдруг вдали задребезжала пролетка, к счастью, свободная. Айседора опустилась на сиденье, будто в экипаж, запряженный цугом.
Есенин сел с нею рядом. А я пристроился на облучке. (Извозчику.) Эй, отец. Ты что, венчаешь нас, что ли? Вокруг церкви, как вокруг аналоя, три раза ездишь.
Е с е н и н. Повенчал. (Смеется.)
Д у н к а н. Marriage! Илья Илич… ча-ай?
Ш н е й д е р. Чай, конечно, можно организовать.
А Сережа чистенький.
Потому — Сережа спит
Часто на Пречистенке.
Есенин один за столиком, что-то пишет.
Д а в н и й п р и я т е л ь. Сергей, говорят, ты живешь теперь по-царски.
Е с е н и н. Я живу по-бивуачному, без приюта и без пристанища. Ходят за мной разные бездельники. Им, видите ли, приятно выпить со мной. А Дункан — баба хорошая, добрая, всех угощает. Ты не думай, она молодая. И душа у нее русская. Дуня.
Д а в н и й п р и я т е л ь. Заехал я к тебе на Пречистенку, да не застал.
Е с е н и н. Передохнуть не мешает.
Появляется Изадора Дункан в сопровождении Шнейдера и Ирмы.
Д у н к а н. Darling! А я тебя ищу. Идея. Смотри (рисует в блокноте). Театр, древнегреческий хор. Я — театр. Ты — вместо хора. Я танцуй, дети танцуй, ты читай стихи.
Е с е н и н. Уволь, Дуня.
Ш н е й д е р. Сергей Александрович, а в этом что-то есть. Попробуем в Европе. Я беру на себя светомузыку.
Е с е н и н. Ну, особняк на Пречистенке вы уже оформили.
Ш н е й д е р. И как удачно. Я спустил с недействующей люстры одиноко горевшую лампу. И Айседора затянула ее оранжево-розовой шалью. Зал сразу потеплел. Возле стены поставили маленький электрокамин. Я заслонил его листом синего целлофана. И в волшебном розовом свете засверкал кусок не то синего моря, не то южного неба.
Д у н к а н. Мичательно. Солнце! Теплый свет. Не люблю мертвящий белый.
Ш н е й д е р. Светомузыка.
Д у н к а н. «Ноктюрн» Шопена в синем цвете, а «Военный марш» Шуберта в красном. Джон Локк «Опыт о человеческом разуме». Слепой видит пурпурный цвет как звук трубы.
Ш н е й д е р. Айседора, пора. Труба Луначарского зовет. (Окружающим.) Завтра последнее выступление перед отъездом в Европу и Америку. 30 процентов валового сбора голодающим Поволжья.
Д у н к а н. Darling! Я вернусь. Заеду за тобой.
Исчезает в сопровождении Шнейдера. Ирма танцует на сцене.
Д а в н и й п р и я т е л ь. Вот это комиссарша. Как говорит Клюев, в Рязани пироги с глазами. Их едят, а они глядят.
Е с е н и н. Да что он знает о Рязани! Сусально пишет.
Д а в н и й п р и я т е л ь. Ты был в деревне?
Е с е н и н. Да, был. Все рушится. Надо самому быть оттуда, чтобы понять. Конец всему.
Д а в н и й п р и я т е л ь. Прочти, что пишешь.
Ты, как ветер, затих и присел.
Вот сдавили за шею деревню
Каменные руки шоссе.
Заметалась звенящая жуть.
Здравствуй ты, моя черная гибель,
Я навстречу к тебе выхожу!
Окрестил нас на падаль и мразь.
Стынет поле в тоске волоокой,
Телеграфными столбами давясь.
И легка ей чугунная гать.
Ну, да что же? ведь нам не впервые
И расшатываться и пропадать.
Эта песня звериных прав…
…Так охотники травят волка,
Зажимая в тиски облав.
Как и ты — я всегда наготове,
И хоть слышу победный рожок,
Но отпробует вражеской крови
Мой последний, смертельный прыжок.
Упаду и зароюсь в снегу…
Все же песню отмщенья за гибель
Пропоют мне на том берегу.
Е с е н и н. Шумит, как в мельнице, сам не пойму. Пьян, что ли? Или так просто… Хочешь, провожу? Только скорее. А то, чего доброго, Айседора вернется. Ты, брат, ее не знаешь, липнет, как патока… А знаешь, она баба добрая… Дунька… Чудная только какая-то. Не пойму ее.
Скоро в Америку уезжаю. Баста. Или не слыхал?
Д а в н и й п р и я т е л ь. Навсегда?
Е с е н и н. Разве я могу… От Клюева было письмо.
«Облил я слезами твое письмо и гостинцы, припадал к ним лицом своим, вдыхал их запах, стараясь угадать тебя, теперешнего.
Кожа гремучей змеи на тебе, но она, я верую, до весны, до апреля урочного…
Человек, которого я послал к тебе с весточкой… повелел мне не плакать о тебе, а лишь молиться. К удивлению моему, как о много возлюбившем.
Семь покрывал выткала Матерь-жизнь для тебя, чтобы ты был не показным, а заветным. Камень драгоценный душа твоя, выкуп за красоту и правду родимого народа, змеиный калым за невесту-песню.
Страшная клятва на тебе, смертный зарок! Ты обреченный на заклание за Россию, за Ерусалим, сошедший с неба. Молюсь лику твоему невещественному.
Много слез пролито мною за эти годы. Много ран на мне святых и грехом смердящих, много потерь невозвратных, но тебя потерять — отдать Мариенгофу как сноп васильковый, как душу сусека, жаворонковой межи, правды нашей, милый, страшно, а уж про боль да про скорбь говорить нечего…
Коленька мне говорит, что ты теперь ночной нетопырь с глазами, выполосканными во всех щелоках, что на тебе бобровая шуба, что ты ешь за обедом мясо, пьешь настоящий чай и публично водку, что шатия вокруг тебя — моллюски, прилипшие к килю корабля (в тропических морях они облепляют днище корабля в таком множестве, что топят самый корабль)…
Какая ужасная повесть! А где же рязанские васильки, девушка в синей поддевке с выстроганным ветром батожком? Где образ Одигитрии-Путеводительницы, который реял над золотой твоей головкой, который так ясно зрим был в то время?
Но мир, мир тебе, брат мой прекрасный! Мир духу, крови и костям твои!
Ты, действительно, победил пиджачных бесов, а не убежал от них, как я, — трепещущий за чистоту риз своих…
…порывая с нами, Советская власть порывает с самым нежным, с самым глубоким в народе. Нам с тобой нужно принять это как знамение — ибо лев и голубь не простят власти греха ее. Лев и голубь — знаки наши — мы с тобой в львиноголубинности. Не согрешай же, милый, в песне проклятиями, их никто не слышит.
Я целые месяцы сижу на хлебе напополам с соломой, запивая его кипятком, бессчетные ночи плачу один-одинешенек и прошу Бога только о непостыдной и мирной смерти.
Каждому свой путь. И гибель.
Покрываю поцелуями твою «Трерядницу» и «Пугачева»…
Брат мой, пишу тебе самые чистые слова, на какие способно сердце мое…
Радуйся, возлюбленный, красоте своей, радуйся, обретший жемчужину родного слова, радуйся закланию своему за мать-ковригу.
Будь спокоен и счастлив.
Твой брат и сопесенник»
Комментарии
Добавить комментарий
Комментарии, не имеющие прямого отношения к теме статьи, содержащие оскорбительные слова, ненормативную лексику или малейший намек на разжигание социальной, религиозной или национальной розни, а также просто бессмысленные, ПУБЛИКОВАТЬСЯ НЕ БУДУТ.