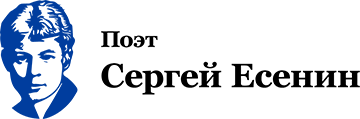Читать онлайн Катаев
24.01.2018Есенин сорокоуст читать полностью
24.01.2018Катаев воспоминание о есенине читать
Предлагаемое вниманию читателей это, если можно так сказать, литературное расследование было написано сразу по прочтении «опуса» В. Катаева под названием «Алмазный мой венец» в шестом номере «Нового мира» за 1978 год. Тогда, чтоб пробиться к правде, я повидался с людьми, которые встречались, и помнили тех, кого под кличками вывел автор «венца». Были еще живы В.В. Казин («сын водопроводчика»). В.Б. Шкловский, О.Г. Суок-Олеша (вдова Ю.К. Олеши), Т.В. Иванова. Они и помогли мне прийти к истине.
Когда был готов первоначальный текст «расследования», я послал его в Тбилиси Г.В. Бебутову. С ним мы говорили об июньской публикации «Нового мира» 19 июня 1978 года в Тбилиси. Гарегин Владимирович одобрил мой труд и написал, что, уточнив некоторые детали, нужно попытаться его напечатать.
Показал я рукопись и И.С. Зильберштейну. После прочтения он отозвался положительно, дал мне тексты двух эпиграмм на Катаева, которые, если не изменяет мне память, по его словам, принадлежали Виктору Борисовичу Шкловскому. Илья Самойлович посоветовал мне предложить рукопись в редакцию журнала «Вопросы литературы». Он сказал: «Пойдите прямо к ответственному секретарю журнала Евгении Александровне Кацевой. Думаю, это ее заинтересует».
Послушав его совета и предварительно позвонив, я отправился в «Вопросы литературы». Е.А. Кацева приняла рукопись и просила позвонить ей через несколько дней. Так я и сделал. Когда я позвонил снова в редакцию, Евгения Александровна предложила мне зайти к ней. Кажется, после этого звонка я и отправился в редакцию. Е.А. Кацева сказала, что рукопись она прочла с интересом. Прочитали и отозвались положительно и некоторые члены редколлегии журнала, но: печатать мой «отклик» на сочинение В. Катаева не рекомендовано: «Не можем мы печатать такое против Героя Социалистического Труда. Не правильно это будет понято:»
Я же понял тогда, что и в других случаях, если бы я предложил свой текст в какое-нибудь другое издание, получил бы от ворот поворот — «Герой СоцТруда и прочая, прочая:»
Позже, работая уже в «Литературной России, я дал прочитать мои «замечания на полях «Алмазного венца»» своим коллегам. С интересом прочитав их, некоторые говорили, что можно было бы в сокращении, учитывая специфику газеты, напечатать в «ЛитРоссии». Прочитала рукопись и член редколлегии А.М. Пистунова. Не объяснив причины, она сказала, что печатать не стоит.
Так была тогда поставлена точка:
Вернуться к «отзыву» на «Алмазный венец» сегодня меня вдохновило то, что в прошлом году на двух международных конференциях, посвященных 110-летним юбилеям (сначала — В.Г. Шершеневича, а позже — В.В. Маяковского), были сделаны доклады, в которых речь шла о «проделках» В. Катаева в его «Алмазном венце».
Подготовив на основе своего «расследования» небольшой доклад, я выступил на научной конференции в Константинове, посвященной 108-й годовщине со дня рождения Сергея Александровича Есенина. Реакция аудитории, которая свидетельствовала, что тема не потеряла актуальности, и подвигнула меня к публикации своих заметок.
Может быть, написав их сегодня, они по каким-то параметрам выглядели бы иначе, но я их оставляю такими, какими они были четверть века назад, когда я работал старшим инженером проектного института, автоматизируя производства анилиновых красителей, фталевого ангидрида и пр.
«Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: "За 100 тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки. "»
И.Бунин. 1919 год. Одесса.
В 1926 году поэт Евгений Сокол в своих воспоминаниях о Есенине писал:
«Завидовали ему многие, ругали многие, смаковали каждый его скандал, каждый его срыв, каждое его несчастье»1.
Прошло с тех пор уже более пятидесяти лет. Многое было за эти годы. Было время, когда гремели Бухарин, Волин, Сосновский и им подобные. Были годы забвения поэта, а потом наступили года второго рождения — это произошло в начале пятидесятых. В последующие годы появилось много работ о Есенине, вышла двумя изданиями книга воспоминаний о нем. В журналах и газетах в разное время печатались и продолжают печататься воспоминания современников — людей, которые были близки к Есенину, друживших с ним, его спутников.
Но вот, в июньской книжке «Нового мира» за 1978 год опубликован «Алмазный мой венец», в котором Катаев, спустя более полувека после смерти С. Есенина, смакует все то, о чем писал Евгений Сокол. Это сочинение отличается от всех предыдущих произведений автора большей «художественной свободой». Эти «раскованность» и «художественная свобода» позволили ему давать клички людям, оставившим большой след в русской литературе, позволили заниматься вымыслами и фальсификациями, или, как пишет сам автор:
«Теперь же я, слава богу, освободился от этих предрассудков, выдуманных на нашу голову литературоведами и критиками, лишенными чувства прекрасного. А что может быть прекраснее художественной свободы. Это просто новая форма, пришедшая на смену старой. Замена связи хронологической связью ассоциативной. Замена поисков красоты поисками подлинности, как бы эта подлинность не показалась плоха. По-французски "мовэ" — то есть плохо».
Плохо, когда подлинность заменяется фальсификацией и при этом фальсификатор уверяет:
«Но поверьте мне на слово: все было именно так, как я здесь пишу».
Последние строки относятся к описанию встречи и знакомства Багрицкого с Есениным, которых, по утверждению автора «Алмазного венца», познакомил он:
«Раз уж я заговорил о птицелове, то не могу не вспомнить тот день, когда я познакомил его с королевичем».
Для того же, чтоб понять, как на самом деле познакомились Есенин и Багрицкий, процитируем немного Катаева:
«Разговорившись, мы подошли к памятнику Пушкину и уселись на бронзовые цепи, низко окружавшие памятник, который в то время еще стоял на своем месте, в голове Тверского бульвара, лицом к необыкновенно изящному Страстному монастырю нежно-сиреневого цвета, который удивительно подходил к его маленьким золотым луковкам. <:>
Желая поднять птицелова в глазах знаменитого королевича, я сказал, что птицелов настолько владеет стихотворной техникой, что может, не отрывая карандаша от бумаги, написать настоящий классический сонет на любую заданную тему. Королевич заинтересовался и предложил птицелову тут же, не сходя с места, написать сонет на тему Пушкин.
Птицелов взял у королевича автоматическую ручку и на обложке толстого журнала «Жизнь», который был у меня в руках, написал «Сонет Пушкину»по всем правилам: пятистопным ямбом с цезурой на второй стопе, с рифмами А Б Б А в первых двух четверостишиях и с парными рифмами в двух последних терцетах. Все честь по чести. Что он там написал — не помню.
Королевич завистливо нахмурился и сказал, что он тоже может написать экспромтом сонет на ту же тему. Он долго думал, даже слегка порозовел, а потом наковырял на обложке «Жизни» несколько строчек своими кругленькими полудетскими буковками, почти не связанными друг с дружкой.
— Сонет? — подозрительно спросил птицелов.
— Сонет, — запальчиво сказал королевич и прочитал вслух следующее стихотворение:
— Пил я водку, пил я виски, только, жаль, без вас, Быстрицкий! Мне не нужно адов, раев, лишь бы Валя был Катаев, потому что участь наша на твою похожа, Саша.
— При последних словах он встал со слезами на голубых глазах, показал рукой на склоненную голову Пушкина и поклонился ему низким русским поклоном.
— (Фамилию птицелова он написал неточно: Быстрицкий, а надо было:)
Журнал «Жизнь» с двумя бесценными автографами у меня не сохранился. Я вообще никогда не придавал значения документам. Но поверьте мне на слово:»
Так пишет Катаев. А на самом деле:
Во второй половине июня 1978 года я по служебным делам (работаю в проектном институте) был командирован в Тбилиси. Уезжая из Москвы, я выписал из «Справочника Союза писателей СССР» адрес и номер телефона литературоведа Г.В. Бебутова, с различными есенинскими публикациями которого был знаком. В один из дней своего пребывания в Тбилиси я созвонился с Гарегином Владимировичем, и он пригласил меня к себе.
И вот, закончив свои служебные дела, я отправился к нему на Киевскую улицу. В этот день мы много и долго говорили о Есенине, о реалиях пребывания поэта в Грузии и о неточностях в воспоминаниях Н. Вержбицкого. Радушный хозяин показал мне свои есенинские реликвии — книги с автографами Л.Н. Андрееву и М.В. Шику, обложку и страницы журнала «Современник» (1925) с экспромтом С. Есенина и сонетом В. Катаева. В связи с последним зашел разговор об «Алмазном венце», только что опубликованном в «Новом мире».
Я выразил свое возмущение по поводу прочитанного «творения» Катаева. Гарегин Владимирович был полностью со мной согласен, и рассказал о том, как есенинские строки появились на 20-й странице «Нового мира».
Дело было так. В начале 70-х годов Г.В. Бебутов написал Катаеву письмо, в котором сообщил, что в его собрании имеется журнал с автографом экспромта Есенина и катаевского сонета. Московский коллега откликнулся и попросил Г.В. Бебутова снять копии записей. Последний выполнил просьбу. Так, преднамеренно допустив неточности («аберрация памяти») воспроизвел есенинские строки. Нужно было бы воспроизвести написанный Багрицким «по всем правилам «Cонет Пушкину»», но его под рукой автора не оказалось — не было его и в собрании Г.В. Бебутова.
А был ли сонет «Быстрицкого» и было ли условие написать именно сонет.
Катаев же «несколько иначе интерпретирует» сюжет переписки с Г.В. Бебутовым в своем интервью, опубликованном в «советской культуре» 4 августа 1978 года:
«В одном месте (помните) я цитирую сонет королевича — Есенина? Он в тот вечер был записан поэтом на обложке какого-то журнала. Номер этот считался утерянным, И вот, когда вышла книга, я неожиданно получил из Тбилиси от одного из читателей этот журнал и убедился в том. Что цитирую не вполне точно».
Как видно из приведенных версий, сравнить есть что: при свете «Голубого фонаря вечной весны» (так было озаглавлено интервью Героя СоцТруда).
По-Катаеву получается так, что Есенин и представления не имел о том, что такое сонет. Это он-то, написавший еще в 1915 году «по все правилам сонеты» «Греция» и «Польша»!
Приведем здесь шесть строк есенинского экспромта:
Пил я водку, пил я виски,
Только жаль, без вас, Быстрицкий.
Нам не нужно адов, раев,
Только б Валя жил Катаев.
Потому нам близок Саша,
Что судьба его как наша.
В 1973 году в издательстве «Советский писатель» вышла книга воспоминаний об Эдуарде Багрицком, на 425-ой странице, которой читаем:
«Через год, весной 1925 года, я встретился с Багрицким на Советской площади. Рядом, на углу, была пивная. Тут мы увидели Сергея Есенина, я познакомил Багрицкого с Есениным».
Эти строки принадлежат Виктору Борисовичу Шкловскому, который в разные годы встречался с Есениным, а впервые встретился с ним в Петрограде в те дни, когда Есенин только что там появился. Поэтому, думается, можно доверять Шкловскому, но нет оснований верить автору «Алмазного венца», который, как говорится, сам был знаком с Есениным без году неделю, но который в своем «творении» предстает перед нами чуть ли не самым первым другом Есенина, водившим последнего за ручку.
Этакий новоявленный Хлестаков:
«Мы были с соратником действительно в самых дружеских отношениях, и я сказал королевичу: "Ну что ж, к соратнику я тебя, пожалуй, как-нибудь сведу"».
«Соратник» же, то есть Николай Асеев писал на странице 77 книги «Проза поэта», вышедшей в 1930 году в издательстве «Федерация»:
«Я живу на девятом этаже. Лестница, ведущая ко мне, имеет сто шестьдесят семь ступеней. Пока поднимаешься по ней, вспоминаешь детство, отрочество и юность. Пролеты ее узки и круты: ход черный. По лестнице этой поднимались почти все современные поэты. Всходил нервически гордый Мандельштам, поднималась на монашествующую похожая Ахматова, взбегал огнеглазый Пастернак, любезно улыбающийся Есенин, глухоголосый Тихонов, шагал через пять ступеней Маяковский.
Поднималась по ней и молодежь: брызгающийся юностью Сема Кирсанов, меланхолический Михаил Голодный, крепкоплечий с внимательно щурящимися глазами, черно-румяный Сельвинский. Вера Инбер, трепеща за свое слабое сердце, все же отважилась на подъем. Алеша Крученых скакал со ступеньки на ступеньку. Вышагивал длинноногий, на римского папу похожий Третьяков. И много других, менее запомнившихся, реже бывавших, не оставшихся в памяти».
Как видим, «соратник» помнил и «мулата», и «королевича», и «командора», и «альпиниста», и «щелкунчика». Помнил даже «вьюна», а вот «гений», видимо, затерялся где-то среди «не оставшихся в памяти». А случай действительно происшедший в квартире Асеевых хозяин со слов жены описывает так:
«Однажды в последних числах октября 1925 г . мне пришлось вернуться домой довольно поздно.<:> Здоровье жены, долго перед тем лечившейся, которое за последнее время пошло на поправку, явно ухудшилось. Она рассказала мне. Днем, в мое отсутствие, забрались ко мне наверх двое посетителей: С.А. Есенин и один беллетрист. Пришел Есенин ко мне в первый раз в жизни. Стали ждать меня. Есенин забыл о знакомстве с женой в «Стойле Пегаса». Сидел теперь тихий, даже немного застенчивый, по словам жены. <:> Сидел он, ожидая меня, часа четыре. И, переговорив все, о чем можно придумать при малом знакомстве с человеком, попросил разрешения сбегать за бутылкой вина. Вино было белое, некрепкое. И только Есенин выпил — начался кавардак. Поводом послужил носовой платок. У Есенина не оказалось, он попросил одолжить ему. Жена предложила ему свой маленький шелковый платок. Есенин поглядел на него с возмущением, положил в боковой карман и начал сморкаться в скатерть, Тогда «за честь скатерти» нашел нужным вступиться пришедший с ним беллетрист. Он сказал ему:
— Сережа! Я тебя привел в этот дом, а ты так позорно ведешь себя перед хозяйкой. Я должен дать тебе пощечину.
Есенин принял это, как программу-минимум.
Он снял пиджак и встал в позу боксера. Но беллетрист был сильнее его и меньше захмелел. Он сшиб Есенина с ног и они клубком покатились по комнате. Злополучная скатерть, задетая ими, слетела на пол со всей посудой. Испуганная женщина, не зная, чем это кончится, так как дрались с ожесточением, подняла крик и, полу надорвавшись, заставила их все-таки прекратить катанье по полу. Есенин даже успокаивал ее, говоря:
— Это ничего! Это мы боксом дрались честно!
Жена была испугана и возмущена; она потребовала, чтобы они сейчас же ушли. Они и ушли, сказав, что будут дожидаться на лестнице»2.
Вот так! Асеев не называет даже имени беллетриста, который спустя много лет по-своему «аранжировал» мемуары «соратника». Можно было бы акцентировать на других различиях мемуаров Асеева и повествования Катаева.
Не исключено, конечно, что Катаев слышал, как Есенин читал «Анну Снегину», «Черного человека» и другие произведения, но вот цитирует он «Черного человека» не по памяти, как уверяет нас, а из последних изданий произведений Сергея Есенина, в которых все так же продолжают печатать строки:
Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица.
Маячить больше невмочь.
Если бы он писал по памяти, то, может быть, тогда не появились бы "на шее ноги", а было бы, как, безусловно, читал Есенин:
Маячить больше невмочь.
Ночь это третье действующее лицо поэмы Сергея Есенина «Черный человек», с нее начинается поэма и обращением к ней
Что ты, ночь, наковеркала?
заканчивается. Не мог Есенин пристроить ноги к шее. Это после, когда редакторы готовили поэму к печати, то прочли в есенинской рукописи «ночи» как «ноги». И кочуют «ноги», с их легкой руки, из издания в издание, хотя уже было справедливо указано на эту бессмыслицу исследователем творчества поэта В. Вдовиным.
Для того же, чтоб процитировать «по памяти» строки из книги стихов Владимира Нарбута «Плоть», Катаев разыскивал эту книгу, долго не мог найти, и только, когда вдова Юрия Карловича Ольга Густавовна Суок-Олеша перепечатала ему стихи из этой книги, они появились на страницах его «творения».
Когда создавался «венец», то автор «как бы пропускал все события через кристалл» своей души. Получилось же, на самом деле, что человек с «кристальной душой» пропускал и чужие воспоминания. Вот еще один пример — одессит Семен Гехт писал в своих воспоминаниях в книге о Бабеле, увидевшей свет еще в 1972 году:
«Выбравшись на улицу, мы завернули в пивную у Мясницких ворот. Сейчас на этом месте павильон станции метро. Пил Есенин мало, и только пиво марки Корнеева и Горшанова, поданное на стол в обрамлении семи розеток с возбуждающими жажду закусками — сушеной воблой, кружочками копченой колбасы, ломтиками сыра, недоваренным горошком, сухариками черными, бе-лыми и мятными. Не дал Есенин много пить и разыскавшему его пареньку богатырского сложения. Паренька звали Иван Приблудный — человек способный, но уж чересчур непутевый. С добрым сердцем, с лицом и силой донецкого шахтера, он ходил за Есениным, не очень им любимый, но и не отвергаемый»3.
После прохождения через «кристалл души» произошло преломление и разложение. Трактир описывается на странице 32 «Нового мира»:
«А в начале Чистых прудов, как бы запирая бульвар со стороны Мясницкой, стояло скучное здание трактира с подачей пива».
Все же остальное очутилось на странице 40, но уже в трактире сидели не Бабель, Гехт и Приблудный с Есениным, а Катаев с Багрицким, и трактир был уже у Казанского вокзала:
«Мы сидели в просторной пивной, уставленной традиционными елками, с полом, покрытым толстым слоем сырых опилок. Половой в полотняных штанах и такой же рубахе навыпуск, с полотенцем и штопором в руке, трижды хлопнув пробками, подал нам три бутылки пива заводов Корнеева и Горшанова и поставил на столик несколько маленьких блюдечек-розеток с традиционными закусками: виртуозно нарезанными тончайшими ломтиками тараньки цвета красного дерева, моченым сырым горохом, крошечными кубиками густо посоленных ржаных сухариков, такими же крошечными мятными пряничками и прочим в том же духе доброй старой, дореволюционной Москвы. От одного вида этих закусочек сама собой возникала такая дьявольская жажда. «
Нам кажется, что здесь все предельно ясно, комментарии излишни:
В 1965 году Лев Никулин описал чтение Олешей «Зависти» в самой редакции того толстого журнала и в присутствии того самого редактора, который (у Катаева) приезжает на квартиру Юрия Карловича в наводнение: Только у Никулина редактор «слегка вздрогнул»4, а у Катаева — эта же фраза — «Он поет по утрам в клозете» — «привела редактора в восторг. Он даже взвизгнул от удовольствия».
Шахматная фигура «дракон» была описана И. Овчинниковым в воспоминаниях о Юрии Олеше годом раньше (в «венце» почти дословное воспроизведение). В этих же воспоминаниях описывается появление псевдонима «Зубило»5. Этому описанию веришь, ибо не могло быть того, что пишет Катаев по поводу подписи под стихотворным фельетоном Ю. Олеши: «Подпишите, как хотите, хотя бы "А. Пушкин", — сказал ключик, — я не тщеславный». Имя Пушкина, судя по воспоминаниям современников и по книге «Ни дня без строчки», было для Олеши святым.
А сам Юрий Карлович писал про «Зубило»:
«Однажды — я уже не помню, какие для этого были причины, — начальник отдела Иван Семенович Овчинников предложил мне написать стихотворный фельетон по письму рабкора. И я написал этот стихотворный фельетон <:> Фельетон, как мне теперь кажется, был сделан неплохо.
— Как его подписать? — спросил я моих товарищей по отделу. — А? Как вы думаете? Надо подписать как-то интересно и чтобы в псевдониме был производственный оттенок. Помогите.
— Подпиши "Зубило", — сказал Григорьевич, один из сотрудников, толстый и симпатичный.
Ну, что ж, — согласился я — это неплохо. Подпишу "Зубило"».
Портрет жены Есенина — Софьи Андреевны Толстой у Катаева — это репродукция с портрета работы Мариенгофа. Но не из «Романа без вранья», нет. В 1950-е годы А.Б. Мариенгоф написал новые воспоминания. Несколько вариантов этой рукописи хранятся в различных архивах страны. Есть они, в частности, в рукописном отделе «Ленинки». Фрагменты этих мемуаров были опубликованы в журнале «Октябрь» в 1965 году (№ № 10 и 11). Страница 89 одиннадцатого номера заканчивалась слова: «Тогда его [Есенина] женой была Софья Андреевна Толстая, внучка Льва Николаевича, до немыслимости похожая на своего деда». А воспоминаниях, что находятся в «Ленинке» далее следует: «Только лысины да седой бороды и не хватало».
Автор «Венца», видимо, не поленился и познакомился с интересными, в целом, мемуарами Анатолия Борисовича и, немного добавив от себя, написал:
«Там немолодая дама — новая жена королевича, внучка самого великого русского писателя, вся в деда грубоватым мужицким лицом, только без известной всему миру седой бороды:»
Так вот, ненароком, и Льву Николаевичу досталось от «гения».
Ю. Олеша — «ключик», написавший «Зависть» и «Трех толстяков», увидевшие свет в издательстве «Земля и Фабрика», организованном и возглавляемым Владимиром Нарбутом, или, как его «ласково» величает Катаев — «колченогим», написал еще и книгу «Ни дня без строчки». В ней Юрий Карлович писал о тех же людях, что и Катаев, но под их собственными именами и с должным уважением. В этой своеобразной книге воспоминаний есть такие строчки:
«Вскоре после того, как я приехал в Москву, однажды осенним вечером гуляя с Катаевым по Москве и как раз поднимаясь по Рождественскому бульвару мимо монастыря, мы увидели, что навстречу нам спускается мимо Рождественского монастыря высокий, широко шагающий человек в полупальто, меховой шапке и с тростью.
— Маяковский, — прошептал Катаев. — Смотри, смотри, Маяковский!
Я тотчас же согласился, что это Маяковский. Он прошагал мимо нас, этот человек, весь в желтом мутном свете тумана
Я не был убежден, что это Маяковский, также не был убежден в этом Катаев, но мы в дальнейшем все больше укреплялись в той уверенности, что, конечно же, это был Маяковский. Мы рассказывали знакомым, как встретили на Рождественском бульваре Маяковского, как он шел сквозь туман и как от тумана, казалось, что его ноги мелькают, как спицы велосипеда. Вот как хотелось нам быть в общении с этой фигурой, вот каков был общий интерес к этой фигуре!»6.
То было в 1922 году. А спустя более полувека в «Алмазном венце» Катаев, панибратски «похлопывая Есенина по плечу», пишет:
«Помню, что в первый же день мы так искренне, так глубоко сошлись, что я не стесняясь, спросил королевича, какого черта он спутался со старой американкой, которую, по моим понятиям, никак нельзя было полюбить. «
Конечно, не было ничего этого, ибо точно такой же фигурой, как Маяковский, был тогда для Катаева и Олеши и Есенин. Юрий Карлович свидетельствует:
«Необходимо, чтобы читатель понял характер славы Маяковского. И теперь есть у нас известные писатели, известные артисты, известные деятели в разных областях. Но слава Маяковского была именно легендарной. Что я подразумеваю под этим определением? То и дело вспоминают о человеке, наперебой с другими хотят сказать и свое. Причем, даже не о деятельности его — о нем самом!
— Я вчера видел Маяковского, и он.
— А знаете, Маяковский.
Вот что такое легендарная слава. Она была: и у Есенина»7.
И далее Ю. Олеша пишет:
«Когда я приехал в Москву, чтобы жить в ней — чтобы начать в ней фактически жить, — слава Есенина была в расцвете. В литературных кругах, в которых вращался и я, все время говорили о нем — о его стихах, о его красоте, о том, как вчера был одет, с кем теперь его видят, о его скандалах, даже о его славе.
Враждебных нот я не слышал в этих разговорах, наоборот, чувствовалось, что Есенина любят.
Это было вскоре после того, как закончился его роман с Айседорой Дункан. Он побывал с ней в Америке, вернулся — и вот теперь говорили, что этот роман закончен. Вернувшись из Америки, он напечатал, кстати, в "Известиях", впечатления о Нью-Йорке, назвав их "Железный Миргород". Мою радость по поводу этого хорошего названия я помню до сих пор, и до сих пор также помню газетный лист с этим подвалом, вернее — утро, когда я стою с газетой, разворачиваю этот лист и вижу заголовок.
— "Железный Миргород", — громко прочитываю я, как видно, приглашая кого-то тоже порадоваться хорошему заголовку.
Я совсем еще молод, совсем.
Сегодня последний день солнцестояния. Очень жарко, и можно повторить все, что записано в прошлом году, примерно под той же датой июня.
Некоторые смотрят как из тумана, другие еще хуже: как бы вошли в тесто. Таким украшением на корке пирога смотрел на меня вчера в ресторане Анатолий Мариенгоф. Боже мой, красавец и щеголь Мариенгоф?
— Что поделывает Некритина?
— Ждет вашей пьесы.
Слова! Некритина была изящная, вернее — извилистая, женщина с маленькой черной головкой, актриса, игравшая среди других также и в моей пьесе. Они живут в Ленинграде. Мариенгоф, автор воспоминаний о Есенине, поэт-имажинист, в последнее время сочиняет пьесы, из которых каждая фатально становится объектом сильной политической критики, еще не увидев сцены. Так от этих пьес остаются только названия, обычно запоминающиеся и красивые — "Заговор дураков", "Белая лилия", "Наследный принц". В нем все же изобразительность со времен имажинизма сильна. Но насколько выше, насколько неизмеримо выше был их, имажинистов, товарищ — Есенин!
Вот так бы я мог встретиться в коридоре ресторана и с Есениным. Так же он посмотрел бы на меня из тумана или с корки пирога. Нет, очевидно, могло только так, и произойти, как произошло. Он ушел молодым, золотым, с плывущими по горизонту нитями волос. Я видел его всего несколько раз в жизни»8.
Катаев же был так якобы близок с Есениным, что это позволило ему смаковать те были и небылицы, вроде погрома в квартире Асеева, драку Есенина с Пастернаком, драку Есенина с его провинциальным поклонником:
«Их стали разнимать. Женщины схватились за виски. Королевич сломал этажерку, с которой посыпались книги, разбилась какая-то вазочка. Его пытались успокоить, но он был уже невменяем.
Его навязчивой идеей в такой степени опьянения было стремление немедленно мчаться куда-то в ночь, к Зинке и бить ей морду».
Кстати, случай «с этажеркой» описывает и Ю. Олеша.
«Я жил в одной квартире с Ильфом. Вдруг поздно вечером приходят Катаев и еще несколько человек, среди которых — Есенин. Он был в смокинге, лакированных туфлях, однако растерзанный — видно, после драки с кем-то. <:>
Потом он читал «Черного человека». Во время чтения схватился неуверенно (так как был пьян) за этажерку, и она упала.
Друг мой, друг мой, я очень и очень болен,
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит над пустынным и диким полем,
То ль, как рощу в сентябрь, осыпает мозги алкоголь:
Он был необычен — нарядный и растерзанный, пьяный, злой, золотоволосый и в кровоподтеках после драки «9.
Простим Юрию Карловичу некоторую неточность в цитировании Есенина, видимо, он писал строки «Черного человека» по памяти.
Это спустя много лет автор «венца» в своем «творении» может говорить, без какой-либо тени уважения, не только о Есенинe, но и об остальных, о тех, кого «он вывел в люди». И спустя много лет после трагической гибели поэта Катаев позволяет себе писать:
«Уже тогда, в первый день нашей дружбы, в трактире на углу Чистых прудов и Кировской, там, где теперь я видел станцию метро "Кировская" и памятник Грибоедову, я предчувствовал его ужасный конец".
Когда же «его предчувствие» сбылось, то он, друг, почти брат, Есенина не пришел с ним проститься!
В книге воспоминаний "Необыкновенные собеседники" Эм. Миндлин писал:
"В слякотный зимний день по длиннейшей аллее от Дворца Союзов к Солянке мы шли втроем — Валентин Катаев, Юрий Олеша и я. Шли и говорили о вчерашних похоронах Сергея Есенина.
Никто из нас не был на похоронах. Ходила на похороны жена Олеши, и со слов жены он рассказывал нам о толпах народа, двигавшегося за гробом поэта"10.
Здесь можно было бы в цитировании воспоминаний Эм. Миндлина поставить точку, но, думается, страница из его книги, где он пишет об авторе «Алмазного венца», о «королевиче», «ключике», «соратнике» и о редакторе того самого журнала, которому Ю. Олеша читал свою «Зависть», поможет расставить некоторые акценты:
«Кажется, только в день похорон зримо обнаружилась не сравнимая ни с чем популярность Есенина. Похороны были стихийно народными. Никто не ждал, что со всех концов огромной Москвы стечется такое несметное множество людей всех уровней знания, образования, профессий.
Мы были озадачены этой необычной и, главное, вдруг ставшей явной популярностью Сергея Есенина.
Как всегда, подгоняя спутников своим торопливым шагом, Катаев спрашивал:
— В чем, по-вашему, причина такой популярности? Жена Олеши рассказывает, что на похоронах были представители всех слоев общества. Понимаете? И рабочие, и профессора, и какие-то девочки, и образованные люди, и самые простые, малограмотные по виду! Вся Москва, весь народ! Очень мало кого из русских писателей так хоронили. И, главное, стихийно пришли. не то чтоб людей собирали. Нет. Сами. Стихийно! Что вы на это скажете?
— Просто не знали, как он популярен в народе,- заметил я.
— Речь не о том. Я спрашиваю, в чем секрет этой популярности? В чем, по-вашему?
— Он был благородно сентиментален,- сказал Олеша.- Благородная сентиментальность всегда находит дорогу к сердцам. Все русские классики благородно сентиментальны. В последние годы такая сентиментальность исчезла из литературы. Людям недоставало ее. У Есенина она есть.
Мы прошли еще несколько десятков шагов — и Олеша остановился. Он застыл на месте, втиснув руки в карманы распахнутого пальто. Катаев успевший уйти вперед, обернулся и вопросительно посмотрел на нас.
— Щина,- твердо сказал Олеша.
Катаев понял Олешу лучше меня.
— Юра хочет сказать: есенинщина.
— Причина в «щине»,- кивнул головой Олеша и медленно зашагал по аллее.- Благородная сентиментальность плюс «щина». Ничто так не создает популярность писателю, как приставка «щина» к его фамилии. Начали писать о «есенинщине». Думали отпугнуть, а этим только привлекли к нему новых поклонников.
До смерти Есенина слово «есенинщина» звучало еще не часто и внове. Но тотчас после кончины поэта, после его похорон, поразивших своим многолюдием, где только не заговаривали о пресловутой «есенинщине»! Олеша был прав: чем больше спорили о «есенинщине», чем чаще звучало это ругательное слово, тем популярнее становилось имя поэта.
«Есенинщина» превратилась в синоним упадочничества. Бухарин, как известно, не отделял Есенина от «есенинщины». Луначарский, осуждая «есенинщину», Есенина признавал и принимал. Рапповцы называли Есенина «знаменем кулацкой контрреволюции. Некоторые характеризовали есенинскую поэзию, как «пошлую и мещанскую». Николай Асеев признал книги стихов Есенина «достойными только библиотечек зубных врачей».
Асееву ответил А.К. Воронский на вечере памяти Есенина в зале Театра Революции. Ответил с резкостью, вызвавшей аплодисменты публики, среди которой находились и Мейерхольд с Зинаидой Райх. Мейерхольд даже вскочил и стоя долго демонстративно хлопал Воронскому.
А.К. Воронский призвал прекратить глумление над памятью Сергея Есенина и склонить головы перед могилой большого и светлого поэта. Это был первый год посмертной поэтической судьбы Сергея Есенина. Год, когда каждую похвалу его высокой поэзии тотчас пытались заглушить осуждениями «есенинщины», когда каждого выступавшего в защиту его поэзии рапповпы немедленно объявляли упадочником, а то и выразителем кулацкой контрреволюционной идеологии. И вместе с тем это был год все ширящейся популярности поэта в народе»11.
И вот Катаев, не присутствовавший на похоронах, пишет о том, что он «видел»:
«И долгое время передо мной стояла, да и сейчас стоит! — неустранимая картина: . черная похоронная толпа на Тверском бульваре возле памятника Пушкину с оснеженной курчавой головой, как бы склоненной к открытому гробу, в глубине которого виднелось совсем по-детски маленькое личико мертвого королевича, задушенного искусственными цветами и венками с лентами. ".
А гроб-то, когда его обносили вокруг памятника Пушкину, между прочем, если посмотреть на фотографию, был закрыт.
Еще свидетельствует Миндлин:
«В годовщину смерти Есенина вместе с поэтом Петром Орешиным я приехал на Ваганьково кладбище. Все ожидали, что в этот день у могилы скопится множество людей. Но, против ожидания, пришли очень немногие. Из писателей — Д.Д. Благой, Петр Орешин, Георгий Шенгели, проф. В.Л. Львов-Рогачевский. Пришли Мейерхольд с Зинаидой Райх — и никого из тех, кто еще недавно называл себя ближайшими друзьями Есенина. И вообще-то народу набралось не больше тридцати человек.
Нынешнего памятника на могиле поэта в то время еще не было. И не так-то легко было отыскать на большом старом московском кладбище маленький заснеженный холмик, покрытый ветками елки и обнесенный черной, опушенной снегом оградой. Если бы не жестяная дощечка с белой по черному надписью «Сергей Есенин», то можно было бы и пройти, не заметив могилы поэта.
Постояли молча, сняв шапки. Вспомнилось:
Не жалею, не зову, не плачу,
Все прейдет, как с белых яблонь дым.
И подумалось: есенинское «не жалею» напоминает мудрость Пушкина:
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть!
И как это сразу не увидали родства между есенинским «не жалею» и пушкинским «пусть»!
Гражданская панихида как-то не удалась. Речи были кратки и очень уж литературно-профессиональны. Предполагали читать стихи, но в последний момент раздумали. Хотел что-то сказать Петр Орешин. Сказал: «Сережа. » И вдруг оборвал себя.
Зинаида Райх услыхала это «Сережа» и тихо заплакала. Встревоженный Мейерхольд увел ее с кладбища.
Гражданская панихида закончилась»12.
Такова реальность. Не было на кладбище тех, кто еще недавно называл себя ближайшими друзьями Есенина.
Не было на Ваганьковском и того, кто в «Алмазном венце» называет себя другом «королевича».
Кроме Есенина, оказывается, Катаев водил за ручку еще и Велимира Хлебникова. Появившись только что в Москве, в 1922 году, он берется устроить его судьбу:
«Я был взбешен, что его не издают, и решил повести будетлянина вместе с его наволочкой, набитой стихами, прямо в Государственное издательство».
«Я не стеснялся в выражениях, иногда пускал в ход матросский черноморский фольклор, хотя в глубине души, как все нахалы, ужасно трусил, ожидая, что сейчас разразится нечто ужасное и меня с позором вышвырнут из кабинета».
Было ли это на самом деле? Не могло этого быть, как не было и «Досок судьбы» с дарственной надписью Велимира Хлебникова автору «венца». Не было всего этого по той простой причине, что Хлебников:
«Умер от заражения крови в тяжелых страданиях, в дер. Танталово, Крестецкого уезда Новгородской губернии 28 июня 1922 года. После смерти X. осталось много не напечатанных рукописей — около тысячи стихотворений, до ста поэм, повестей, пьес. Часть этого поэтического наследства опубликована друзьями покойного поэта. (Посмертный сборник «Стихи» М. 1923 г., "Зангези", "Доски судьбы", часть до сих пор еще в рукописях)»13.
Все же три выпуска «Досок судьбы» увидели свет в 1923 году, когда Хлебников не мог уже сделать дарственную надпись.
Сейчас, когда нет в живых Михаила Зощенко, можно и о нем писать небылицы, вроде:
«Он, как и все мы, грешные, любил славу!».
Хотя люди, знавшие близко этого скромного человека, пишут в своих воспоминаниях совсем иное.
«Нет, не очень-то любил Зощенко свою славу юмориста. Да и вообще никогда не шел навстречу успеху, славе. Он был вправе сказать позже в автобиографии: "Я никогда не работал для удовлетворения своей гордости и тщеславия»».
Так писал в "Книге воспоминаний" собрат Зощенко по «Серапионовым братьям» — писатель Михаил Слонимский14.
Зощенко, действительно был в несправедливой опале, но Катаев оказался тем, кто бросил в него первый камень. Дружба, действительно, между ними была, преданная дружба — не в смысле преданности, а в смысле — предательства.
В «Литературной газете» в 1946 году № 39 от 21 сентября, был опубликован отчет о собрании писателей Москвы, где было сказано следующее:
«Резко критикуя творчество Зощенко, В. Катаев подчеркивает, что провал Зощенко не должен бросать тень на работу советских сатириков».
Он старался потопить того, кого считал другом, а самому остаться на поверхности. Опала же была короче, чем растягивает ее Катаев. В письме к В.В. Зенькович М.М. Зощенко сообщает:
«. Дела в общем счете налаживаются, и впереди светло. Если со здоровьем не приключится каких-либо неожиданностей. И я почувствовал прилив творческих сил»15.
Это было написано 17 августа 1953 года, то есть, за пять лет до смерти, или, как пишет Катаев, «до его исчезновения». В это время он иногда встречался с Катаевым, но когда его спрашивали:
«Как можно с Катаевым встречаться?»
Зощенко отвечал: — «Он мне интересен как тип».
«Совсем незадолго до исчезновения» у Зощенко "вышли два больших однотомника, появились переиздания его переводов, новые рассказы, был заключен договор на сценарий «Пять ошибок», который был сдан Ленфильму 10 мая 1957 года»16.
Все это никак не говорит о бедности.
«Совсем незадолго до исчезновения» Зощенко был тяжело болен — у него было сужение пищевода, и он был не в состоянии поехать в кафе «Север»". Он умер оттого, что не мог есть. Не мог он доставить Катаеву и удовольствие «впихнуть» себя в новую модель автомобиля.
Автор «венца» пишет, что Зощенко был «открыт» Олешей. Зачем же нужно было «открывать» уже давно «открытое», ведь к тому времени у Зощенко вышло пять книг и одна из них, между прочим, была издана в Берлине.
У Олеши же, безусловно, были и литературный вкус и чутье, и о Михаиле Зощенко он писал:
«Зощенко очень щедрый человек, из тех благотворителей, которые помогают именно тайно — как называл это Лев Толстой, делают добро без адреса. Без адреса в том смысле, что не оставляют как раз своего адреса. <:>Он, когда мы встречались в Ленинграде, проявил ко мне любовь и интерес. Ему со мной, как и мне с ним, было хорошо»17.
Сам Олеша был таким же щедрым и добрым человеком, о котором Борис Ливанов рассказывал:
«Мне всегда представлялся каким-то волшебником. Добрым сказочным гномом. Нет, сказочным предводителем всех добрых гномов на свете. Доброта. Всегда доброта. Человек был талантливо, изобретательно добр. До бесконечности.
Как писатель Олеша стремился из всех сил быть нужным современникам»18.
В 1975 году в издательстве «Советский писатель» вышла книга «Воспоминаний о Юрии Олеше». В этой замечательной книге были напечатаны мемуары 37 человек, которым был дорог Юрий Карлович Олеша тем, что:
«Он был честен перед собой и людьми. В разные времена люди наиболее ценят разные достоинства. Мне кажется, что советские, в наше время особенно, ценят честность. Олеша был честен. Он был одним из тех наших писателей, который не писал ни единого слова фальши»19.
Эти слова принадлежат писателю Э. Казакевичу, который в трудную минуту, когда Олеша остался без крова, поселил его у себя.
Александр Гладков, говоря об Олеше, вспоминает:
«В его инсценировке "Гранатового браслета" героиня должна была умереть. "Нельзя же жить после этого!" говорил Ю.К.. Там же появился персонаж, которого не было у Куприна, — призрак Бетховена. Увлекаясь, Ю.К. утверждал, что эту роль лучше всех мог бы сыграть в театре он сам: он любил напоминать о своем внешнем сходстве с Бетховеном»20.
«В Олеше было что-то бетховенское, мощное, даже в его голосе», — отмечал К.Г. Паустовский21.
Заметил это и В.Б. Шкловский, написавший в предисловии к книге Ю. Олеши «Ни дня без строчки»:
«В серой шляпе с опущенными полями, в пальто с широкими плечами, обмотав горло серым изношенным шарфом, нагнув голову вперед, как бы упираясь в ветер, идет седовласый синеглазый человек, очень похожий на Бетховена»22.
Касаясь именно этих строк Виктора Борисовича, Катаев в своем "Венце", спустя 13 лет после выхода книги посмертной прозы Ю. Олеши, пишет:
«Какой-то пошляк в своих воспоминаниях, желая, видимо, показать свою образованность, сравнивал ключика с Бетховеном».
Когда же в 1965 году посмертная книга Олеши увидела свет, то Катаев метал в адрес Шкловского, как рассказывал мне Виктор Борисович в начале октября 1978 года, громы и молнии за то, что тот в своем предисловии написал только об Олеше, но в нем:
«Не названы даже современники Олеши, люди одного с ним ряда, оставившие нам непревзойдённые образцы действительно новаторской прозы».
Не названный «новатор прозы» решил лягнуть в своем произведении того, кто всячески старался помочь Олеше в трудную минуту и задавался вопросом: «Чем бы ему помочь? Вернуть веру?».
«По инициативе В.Б. Шкловского, — пишет в своих воспоминаниях Владимир Огнев об издании книги «Ни дня без строчки», — и при участии ряда лиц архиву Ю. Олеши был предан порядок и внешняя цельность единого замысла»23.
Катаев же был далек от всего этого, и когда умер Олеша, он, бывший друг, по словам В.Б. Шкловского, не пришел даже на гражданскую панихиду — видимо и здесь была преданная дружба!
Нет воспоминаний Катаева в книге «Воспоминаний о Юрии Олеше». И кажется вполне закономерным, что составители не предоставили ему слова в этой книге.
В своем «венце» Катаев написал, что Олеша обладал способностью узнавать характер человека по ушам и сетует на то, что Олеша не сказал ему о том, что ему говорили уши Катаева. Видимо, Олеша, по своей доброте, не стал говорить, что его «волчьи уши» (названные так Буниным), говорили Олеше — это уши завистника и вруна.
Многие из тех, кто написал воспоминания о Ю.К. Олеше, писали в свое время и о И.Э. Бабеле, и в этих воспоминаниях образ «конармейца» встает перед нами иным, чем в «сочинении» Катаева. Приведем некоторые строки из воспоминаний друзей.
«Все в нем, — вспоминал Г. Мунблит, — казалось обыкновенным — и коренастая фигура с короткой шеей, и широкое доброе лицо, и часто собирающийся в морщины высокий лоб. А все вместе было необыкновенным. И это чувствовал всякий сколько-нибудь близко соприкасавшийся с ним».
И далее продолжал: «Существует такая манера вести себя, которая называется важность. Глядя на Бабеля, даже представить себе нельзя было, что эта самая важность бывает на свете. И это тоже очень существенная черта его облика»24
А вот что писала о Бабеле художница Валентина Ходасевич:
«Он излучал огромное обаяние, не поддаться которому было трудно. Он не был скупым на чувства — щедро любил порадовать, развлечь или утешить людей своим разговором, рассказом, размышлениями, а если надо было, то и прямыми, конкретными советами и делами.
Он не прятался и не убегал, когда надо было помочь людям, даже если для этого надо было пройти по острию ножа»25.
Последнего нельзя сказать о Катаеве, который, как уже отмечалось, старался потопить «штабс-капитана» Михаила Зощенко в 1946 году. Не было у Катаева, как свидетельствуют современники, никаких оснований писать о Бабеле следующее:
«Как я теперь понимаю, конармеец чувствовал себя инородным телом в той среде, в которой жил. Несмотря на заметное присутствие в его флоберовски отточенной (я бы даже сказал, вылизанной) прозе революционного, народного фольклора, в некотором роде лесковщины, его душой владела неутолимая жажда Парижа. Под любым предлогом он старался попасть за границу, в Париж. Он был прирожденным бульвардье. Лучше всего он чувствовал себя за крошечным квадратным столиком на одной ножке прямо на тротуаре, возле какого-нибудь кафе на Больших бульварах, где можно несколько часов подряд сидеть под красным холщовым тентом, за маленькой чашкой мокко, наблюдая за прохожими и мысленно вписывая их в какой-то свой воображаемый роман вроде "Человеческой комедии".
Не исключено, что он видел себя знаменитым французским писателем, блестящим стилистом, быть может, даже одним из сорока бессмертных, прикрывшим свою лысину шелковой шапочкой академика, вроде Анатоля Франса.
Под высоким куполом Института на берегу Сены он чувствовал бы себя как дома».
Нам кажется, что здесь Катаев пишет о себе, а не о Бабеле — это ему сыпной тиф помешал уехать навсегда во Францию вслед за Буниным. Совершенно иное пишут о Бабеле современники, свидетельствуют документы.
Илья Эренбург, встречавшийся с Бабелем в Париже, писал:
«Однако даже в любимой им Франции он тосковал о Родине. Он писал в октябре 1927 года из Марселя: "Духовная жизнь в России благородней. Я отравлен Россией, скучаю по ней, только о России и думаю».
И в другом письме из Парижа Бабель писал своему старому другу И.Л. Лившицу:
«Жить здесь в смысле индивидуальной свободы превосходно, но мы — из России — тоскуем по ветру больших мыслей и больших страстей»26.
Приведем еще несколько выдержек из парижских писем Бабеля к Т.В. Ивановой.
В письме от 11.11.27 г.:
«. Жизнь мою за границей нельзя назвать хорошей. В России мне жить лучше, переучиваться на здешний лад мне не хочется, не нахожу нужным»27.
Из письма от 16.ХП.27г.:
". В существовании моем недавно произошел перелом к лучшему — я придумал себе побочную литературную работу, которую нигде, кроме как в Париже, сделать нельзя. Это душевно оправдывает мое житье и помогает мне бороться с тоской по России, а тоска моя по России очень велика»28.
И в письме от 26.12.27 г. Бабель писал:
«Мне и здесь передавали о том, что московские сплетники болтают о моем "французском подданстве". Тут и отвечать нечего. Сплетникам этим и скучным людям и не снилось, с какой любовью я думаю о России, тянусь к ней и работаю для нее. «29.
Сплетники и завистники были всегда, во все времена. Есть они и сейчас. Для них, видимо, нет ничего святого, и они с особым удовольствием произносят и слушают эпиграммы и на Бабеля, и на Есенина.
Нравятся им и стихи подобные стихам Семена Кесельмана, приведенным в начале катаевского повествования.
Можно было бы, видимо, привести еще массу фактов, которые еще и еще говорили бы о нечистоплотности, которые еще нагляднее показали бы, как, благодаря «мовизму», далеко зашел автор «алмазного венца» в поисках «вечной весны». Но и так ясно, что в «венце» нет алмазов — в его оправе грубо сработанные стразы [1] .
После ознакомления с творением Катаева создается впечатление, что автор как бы стремился свести какие-то давние счеты и вымазать дегтем особенно тех, кто превзошел его талантом.
Его «раскованность» в журнале, выходящем тиражом 250 000 экземпляров, дает «свободу» читателям познакомиться с этим творением, которое можно было бы с полным основанием назвать «Венец вранья и фальсификаций», но.
"Гений должен уметь ограничивать себя, а главное уметь выбирать. Выбор — это душа поэзии.
Марина уже сделала свой выбор. Я тоже: все лишнее отвергнуто. Оставлен "Алмазный мой венец"».
Так родился новый «гений»!
Любое произведение является проповедью. Что же проповедует автор в своем «венце». Он пишет о ночных похождениях своего брата. Правда, он «чувствовал некоторое неодобрение по поводу его образа жизни, хотя сам вел себя в таком духе, если не хуже».
Это слова человека, писавшего 11 февраля 1924 года в автобиографии:
«В апреле месяце 1923 г. я женился на своей старой любви — Анне Сергеевне Коваленко, в которой нашел доброго товарища и нежную жену»30.
В своем же произведении автор — холостяк, и он застраховался от всех упреков следующим заявлением:
«Вообще в этом сочинении я не ручаюсь за детали. Умоляю читателей не воспринимать мою работу как мемуары. Терпеть не могу мемуаров. Повторяю. Это свободный полет моей фантазии, основанный на истинных происшествиях, быть может, не совсем точно сохранившихся в моей памяти», и далее: "У нас, как у всяких холостяков, завелись подружки мещаночки в районе Садовой Триумфальной.
Мы чудно проводили с ними время, что, признаться, несколько смягчало горечь наших любовных неудач.
. Боже мой, сколько еще потом появлялось и исчезало подобных флаконов, получивших, конечно, другие кодовые названия».
Он пишет о женах «синеглазого» — Булгакова, но «свободный полет фантазии» позволяет ему забыть всех своих жен. А надо было бы написать обо всех, начиная с первой и кончая последней. А, заодно, надо было бы написать о том, как бегала последняя жена от его пьяных побоев в писательском доме № 17 по Лаврушинскому переулку, скрываясь за первой открывшейся дверью. Подлинность же этого не вызывает сомнения, ибо об этом мне рассказывала вдова Всеволода Иванова Тамара Владимировна (в свое время бывшая женой И. Бабеля), которая не раз давала приют у себя (в квартире 42) жене Катаева (из квартиры 43). Ведь он сторонник подлинности, «как бы не была она плоха».
Все то, о чем он написал, интересно для людей, подобным тем, кто еще в первые послереволюционные годы говорил: «Блок — пустой. Белый — предатель, Есенин — "Советский Распутин", Маяковский — ломовой извозчик революции. «
Именно таким и рисует Катаев Есенина. И катаевские характеристики недалеки от тех, которые давали им З. Гиппиус, Д. Мережковский и им подобные тем, кто после революции остался в России.
Все это интересно тем, кто и сейчас продолжает сортировать женщин по катаевскому принципу на «флаконы», «таракуцек», «халер» или по другим, подобным, «кодовым названиям».
Проповедует все это писатель, проживший свыше 80 лет, знавший наизусть (по его словам) почти всю русскую поэзию и удививший «королевича Иннокентием Анненским, плохо ему знакомым».
Но, видимо, этого и следовало ожидать от писателя, у которого отсутствует чувство ответственности перед читателем и русской литературой, давшей миру Пушкина и Толстого.
Михаил Булгаков на одном из собраний писательского объединения "Литературное звено" говорил:
«:Факт существования в нашей литературе Толстого был фактом, обязывающим любого писателя.
— Обязывающим к чему? — спросил кто-то из зала.
— К совершенной правде мысли и слова, — провозгласил Булгаков. — К искренности до дна. К тому, чтобы знать, чему, какому добру послужит то, что пишешь! К беспощадной нетерпимости ко всякой неправде в собственных сочинениях! Вот к чему обязывает то, что в России был Лев Толстой»31.
Сам Катаев в 1953 году писал:
«Преклоняясь перед Толстым — художником, мы все должны учиться у него со всей силой отпущенного нам судьбой таланта писать правду, одну только правду, потому, что правда — это и есть главная сила всякого истинного писателя».
С подлинным же, получается скверно — слова расходятся с делом. А ложь, неправда, вызывают соответствующую реакцию. Народная молва породила своеобразные отклики на катаевское писание — известны две эпиграммы, (нет сомнения, что в действительности эпиграмм существует много больше). Так как Катаев в своем сочинении приводит эпиграммы на советских писателей, вполне закономерно и нам обнародовать эти эпиграммы. Вот текст первой:
Он из восьми венков терновых
Алмазный сплел себе венец,
И нам явился гений новый
Завистник старый и подлец.
Черт возможности такой не упустил —
Смердякова с Свидригайловым скрестил.
В «Новом мире» весь читающий народ
Обнаружил потрясающий приплод:
Камни подлинно алмазного венца
Оказались в грязных лапах подлеца.
Остается только сожалеть, что эта вещь появилась на страницах "Нового мира" — журнала, в котором печатались лучшие произведения всех тех, кто теперь на его страницах ошельмован.
Сделал все это Катаев, которому, видно, хочется, чтоб исполнилось предсказание старой китаянки, вырвавшей ему листок с текстом:
«Феникс поет перед солнцем. Императрица не обращает внимания. Трудно изменить волю императрицы, но имя ваше останется в веках».
Видимо, он, для того, чтоб остаться в веках, решил попытаться цветущее древо русской литературы, его зеленые ветки сделать черными и похожими на скелеты. В этом он сам признается все в том же интервью «Советской культуре» (№ 62 от 4 августа 1978 г.).
Конечно, этот «венец» не перевернет истории русской литературы — дерево останется зеленым и Зощенко останется Зощенко, а Есенин — Есениным. Но печально читать это произведение писателя, достигшего мудрого возраста Льва Толстого.
* Страз — поддельный, хрустальный алмаз (см. Толковый словарь русского языка Владимира Даля).
1 Сборник Всероссийского Союза Поэтов Памяти Есенина. М., 1926. С. 62.
2 Сергей Александрович Есенин. Воспоминания. М. — Л. 1926. С.184.
3 И. Бабель. Воспоминания современников. М., 1972. С. 66.
4 Воспоминания о Юрии Олеше. М., 1965. С. 67.
6 Олеша Ю. Ни дня без строчки. М., 1965. С. 142,143.
8 Там же. С. 155 — 157.
10 Миндлин Эм. Необыкновенные собеседники. М., 1968. С. 274/
11 Там же. С. 274 — 276.
12 Там же. С. 276, 277.
13 Никитина Е.Ф. Русская литература от символизма до наших дней. М., 1926. С. 417.
14 Слонимский Мих. Книга воспоминаний. М. — Л., 1966. С. 166.
15 .Молдавский Дм. Михаил Зощенко. Л., 1977. С. 269.
16 Там же. С. 270.
17 Юрий Олеша. Избранное. М., С. 455.
18 .Воспоминания о Юрии Олеше. М., 1965. С. 126.
19 Там же. С. 292.
20 Там же. С. 274.
21 Там же. С. 177.
23 Там же. С. 263.
24 Мунблит Г. Рассказы о писателях. М., 1968. С. 52,53.
25 И. Бабель. Воспоминания современников. М., 1972.С. 85.
26 Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Книга третья и четвертая. М., 1963. С. 171.
27 И. Бабель. Воспоминания современников. М., 1972. С. 181.
28 Там же. С. 183, 184
29 Там же. С. 183.
30 Литературная Россия. Л., 1925. С. 150.
31 Миндлин Эм. Необыкновенные собеседники. М., 1968. С. 155.