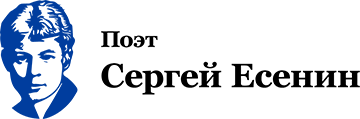Смерть на Ваганьковском кладбище
24.01.2018На главную страницу
24.01.2018Мариенгоф о сергее есенине
Счетчик посещений
МАРИЕНГОФ А. Б. Воспоминания о Есенине
Стоял теплый августовский день. Мой секретарский стол в издательстве Всероссийского центрального комитета помещался у окна, выходящего на улицу. По улице ровными, каменными рядами шли латыши. Казалось, что шинели их сшиты не из серого солдатского сукна, а из стали. Впереди несли стяг, на котором было написано: «Мы требуем массового террора».
Меня кто-то легонько тронул за плечо:
Пустил он нас из боязни уплотнения, из страха за свою золоченую мебель с протертым плюшем, за массивные бронзовые канделябры и портреты «предков» — так называли мы родителей инженера,— развешанные по стенам в тяжелых рамах. <. >
Стали бывать у нас на Петровке Вадим Шершеневич и Рюрик Ивнев. Завелись толки о новой поэтической школе образа.
Несколько раз я перекинулся в нашем издательстве о том мыслями и с Сергеем Есениным.
Наконец было условлено о встрече для сговора и, если не разбредемся в чувствовании и понимании словесного искусства, для выработки манифеста.
Последним, опоздав на час с лишним, явился Есенин. Вошел он запыхавшись, платком с голубой каемочкой вытирая со лба пот. Стал рассказывать, как бегал он вместо Петровки по Дмитровке, разыскивал дом с нашим номером. А на Дмитровке вместо дома с таким номером был пустырь; он бегал вокруг пустыря, злился и думал, что все это подстроено нарочно, чтобы его обойти, без него выработать манифест и над ним же потом посмеяться.
У Есенина всегда была болезненная мнительность. Он высасывал из пальца своих врагов, каверзы, которые против него будто бы замышляли, и сплетни, будто бы про него распространяемые.
Мужика в себе он любил и нес гордо. Но при мнительности всегда ему чудилась барская снисходительная улыбочка и какие-то в тоне слов неуловимые ударения.
Все это, разумеется, было сплошной ерундой, и щетинился он понапрасну.
До поздней ночи пили мы чай с сахарином, говорили об образе, о месте его в поэзии, о возрождении большого словесного искусства «Песни песней», «Калевалы» и «Слова о полку Игореве».
У Есенина уже была своя классификация образов. Статические он называл заставками, динамические, движущиеся — корабельными, ставя вторые несравненно выше первых; говорил об орнаменте нашего алфавита, о символике образной в быту, о коньке на крыше крестьянского дома, увозящем, как телегу, избу в небо, об узоре на тканях, о зерне образа в загадках, пословицах и сегодняшней частушке 2. <. >
Каждый день часов около двух приходил Есенин ко мне в издательство и, садясь около, клал на стол, заваленный рукописями, желтый тюречок с солеными огурцами.
Из тюречка на стол бежали струйки рассола.
В зубах хрустело огуречное зеленое мясо и сочился соленый сок, расползаясь фиолетовыми пятнами по рукописным страничкам. Есенин поучал:
На лету вскочили, догнав клячонку. <. >
В Петербурге весь первый день бегали по издательствам. Во «Всемирной литературе» Есенин познакомил меня с Блоком. Блок понравился своею обыкновенностью. Он был бы очень хорош в советском департаменте, над синей канцелярской бумагой, над маленькими нечаянными радостями дня, над большими входящими и исходящими книгами.
В этом много чистоты и большая человеческая правда.
На второй день в Петербурге пошел дождь.
Мой пробор блестел, как крышка рояля. Есенинская золотая голова побурела, а кудри свисали жалкими писарскими запятыми. Он был огорчен до последней степени.
Бегали из магазина в магазин, умоляя продать нам «без ордера» шляпу.
В магазине, по счету десятом, краснощекий немец за кассой сказал:
А через пять минут на Невском призрачные петербуржане вылупляли на нас глаза, «ирисники» гоготали вслед, а пораженный милиционер потребовал документы.
Вот правдивая история появления на свет легендарных и единственных в революции цилиндров, прославленных молвой и воспетых поэтами.
К осени стали жить вместе в Бахрушинском доме. Пустил нас к себе на квартиру Карп Карпович Коротков — поэт малоизвестный читателю, но пользующийся громкой славой у нашего брата.
Карп Карпович был сыном богатых мануфактурщиков, но еще до революции от родительского дома отошел и пристрастился к прекрасным искусствам.
Выпустил он за короткий срок книг тридцать, прославившихся беспримерным отсутствием на них покупателя и своими восточными ударениями в русских словах.
Тем не менее расходились книги довольно быстро, благодаря той неописуемой энергии, с какой раздаривал их со своими автографами Карп Карпович!
Один веселый человек пообещал даже два фунта малороссийского сала оригиналу, у которого бы оказалась книга Карпа Карповича без дарственной надписи.
В те дни человек оказался крепче лошади.
Лошади падали на улицах, дохли и усеивали своими мертвыми тушами мостовые. Человек находил силу донести себя до конюшни, и, если ничего не оставалось больше как протянуть ноги, он делал это за каменной стеной и под железной крышей.
Мы с Есениным шли по Мясницкой.
Число лошадиных трупов, сосчитанных ошалевшим глазом, раза в три превышало число кварталов от нашего Богословского до Красных ворот.
Против Почтамта лежали две раздувшиеся туши. Черная туша без хвоста и белая с оскаленными зубами.
На белой сидели две вороны и доклевывали глазной студень в пустых орбитах. Курносый «ирисник» в коричневом котелке на белобрысой маленькой головенке швырнул в них камнем. Вороны отмахнулись черным крылом и отругнулись карканьем. <. >
Всю обратную дорогу мы прошли молча. Падал снег.
Войдя в свою комнату, не отряхнув, бросили шубы на стулья. В комнате было ниже нуля. Снег на шубах не таял.
Рыжеволосая девушка принесла нам маленькую электрическую грелку. Девушка любила стихи и кого-то из нас.
В неустанном беге за славой и за тормошливостью дней мы так и не удосужились узнать кого. Вспоминая об этом после, оба жалели — у девушки были большие голубые глаза.
Грелка немало принесла радости.
Когда садились за стихи, запирали комнату, дважды повернув ключ в замке, и с видом преступников ставили на стол грелку. Радовались, что в чернильнице у нас не замерзали чернила и писать можно было без перчаток.
Часа в два ночи за грелкой приходил Арсений Авраамов. Он доканчивал книгу «Воплощение» (о нас), а у него, в доме Нерензея, в комнате тоже мерзли чернила и тоже не таял на калошах снег. К тому же у Арсения не было перчаток. Он говорил, что пальцы без грелки становились вроде сосулек — попробуй согнуть, и сломятся.
Электрическими грелками строго-настрого было запрещено пользоваться, и мы совершали преступление против революции.
Все это я рассказал для того, чтобы вы внимательней перечли есенинские «Кобыльи корабли» — замечательную поэму о «рваных животах кобыл с черными парусами воронов»; о солнце, «стынущем, как лужа, которую напрудил мерин»; о скачущей по полям стуже и о собаках, «сосущих голодным ртом край зари».
Много с тех пор утекло воды. В Бахрушинском доме работает центральное отопление; в доме Нерензея газовые плиты и ванны, нагревающиеся в несколько минут, а Есенин на другой день после смерти догнал славу.
В самую эту суету со спуском «утлого суденышка» 3 нагрянули к нам на Богословский гости.
Из Орла приехала жена Есенина — Зинаида Николаевна Райх. Привезла она с собой дочку — надо же было показать отцу. Танюшке тогда года еще не минуло. А из Пензы заявился друг наш закадычный Михаил Молабух.
Зинаида Николаевна, Танюшка, няня ее, Молабух и нас двое — шесть душ в четырех стенах!
А вдобавок Танюшка, как в старых писали книжках, «живая была живулечка, не сходила с живого стулечка» — с няниных колен к Зинаиде Николаевне, от нее к Молабуху, от того ко мне. Только отцовского «живого стулечка» ни в какую она не признавала. И на хитрость пускались, и на лесть, и на подкуп, и на строгость — все попусту.
Есенин не на шутку сердился и не в шутку же считал все это «кознями Райх».
А у Зинаиды Николаевны и без того стояла в горле горошиной слеза от обиды на Таньку, не восчувствовавшую отца. <. >
Тайна электрической грелки была раскрыта. Мы с Есениным несколько дней ходили подавленные. Часами обсуждали — какие кары обрушит революционная законность на наши головы. По ночам снилась Лубянка, следователь с ястребиными глазами, черная стальная решетка. Когда комендант дома амнистировал наше преступление, мы устроили пиршество. Знакомые пожимали нам руки, возлюбленные плакали от радости, друзья обнимали, поздравляли с неожиданным исходом и пили чай из самовара, вскипевшего на Николае угоднике: не было у нас угля, не было лучины — пришлось нащепать старую иконку, что смирехонько висела в уголке комнаты 4. Один из всех, «Почем соль», отказался пить божественный чай. Отодвинув соблазнительно дымящийся стакан, сидел хмурый, сердито пояснив, что дедушка у него был верующий, что дедушку он очень почитает и что за такой чай годика три тому назад погнали б нас по Владимирке. Есенин в шутливом серьезе продолжил:
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску. 5
Спали мы с Есениным вдвоем на одной кровати, наваливая на себя гору одеял и шуб. Тянули жребий, кому первому корчиться на ледяной простыне, согревая ее своим дыханием и теплотой тела.
После неудачи с электрической грелкой мы решили пожертвовать и письменным столом мореного дуба, и превосходным книжным шкафом с полными собраниями сочинений Карпа Карповича, и завидным простором нашего ледяного кабинета ради махонькой ванной комнаты.
Ванну мы закрыли матрасом — ложе; умывальник досками — письменный стол; колонку для согревания воды топили книгами.
Тепло от колонки вдохновляло на лирику.
Через несколько дней после переселения в ванную Есенин прочел мне:
Цвет черемух в глазах беречь,
Только в скупости чувства греются,
Когда ребра ломает течь.
Что ни лист, то свеча заре.
Никого не впущу я в горницу,
Никому не открою дверь 6.
Мы были неумолимы и твердокаменны. <. >
Идем по Харькову 7 — Есенин в меховой куртке, я в пальто тяжелого английского драпа, а по Сумской молодые люди щеголяют в одних пиджачках.
В руках у Есенина записочка с адресом Льва Осиповича Повицкого — большого его приятеля.
В восемнадцатом году Повицкий жил в Туле у брата на пивоваренном заводе. Есенин с Сергеем Клычковым гостили у них изрядное время.
Часто потом вспоминали они об этом гощенье, и всегда радостно.
А Повицкому Есенин писал дурашливые письма с такими стихами Крученыха:
Моя ворохи пеленок.
Слышит, кто-то, как цыпленок,
Тонко, жалобно пищит:
Видит, в небе без порток
Скачет, пляшет мил дружок 8.
Спрашиваем у всех встречных:
— Скажите, пожалуйста, товарищ.
— А мы тебя, разэнтакий, ищем. Познакомьтесь: Мариенгоф — Повицкий.
Миновали уличку, скосили два-три переулка.
Повицкий был доволен:
Было похоже, что знают они нас каждого лет по десять, что давным-давно ожидали приезда, что матрац для того только и припасен, а столовая для этого именно предназначена.
Есть же ведь на свете теплые люди.
От Москвы до Харькова ехали суток восемь — по ночам в очередь топили печь, когда спали, под кость на бедре подкладывали ладонь, чтоб было помягче.
Девицы стали укладывать нас «почивать» в девятом часу, а мы и для приличия не противились. Словно в подкованный, тяжелый, солдатский сапог усталость обула веки.
Как уснули на правом боку, так и проснулись на нем (ни разу за ночь не перевернувшись) в первом часу дня.
Все шесть девиц ходили на цыпочках.
В темный занавес горячей ладонью уперлось весеннее солнце.
Есенин лежал ко мне затылком.
Я стал мохрявить его волосы.
— Эх, Вятка 10, плохо твое дело. На макушке плешинка в серебряный пятачок.
Любили мы в ту крепкую и тугую юность потолковать о неподходящих вещах — выдумывали январский иней в волосах, несуществующие серебряные пятачки, осеннюю прохладу в густой горячей крови.
Есенин отложил зеркала и потянулся к карандашу.
Сердцу, как и языку, приятна нежная, хрупкая горечь.
Прямо в кровати, с маху, почти набело (что случалось редко и было не в его тогдашних правилах) написал трогательное лирическое стихотворение.
Через час за завтраком он уже читал благоговейно внимавшим девицам:
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать 11.
В середине лета «Почем соль» получил командировку на Кавказ 12.
Секретарем у «Почем соли» мой однокашник по Нижегородскому дворянскому институту Василий Гастев. Малый такой, что на ходу подметки режет.
Гастев в полной походной форме, вплоть до полевого бинокля. Какие-то невероятные нашивки у него на обшлаге. «Почем соль» железнодорожный свой чин приравнивает чуть ли не к командующему армией, а Гастев — скромно к командиру полка. Когда является он к дежурному по станции и, нервно постукивая ногтем о желтую кобуру нагана, требует прицепки нашего вагона «вне всякой очереди», у дежурного трясутся поджилки:
Одновременно Гастев и. администратор наших лекций.
Мы с Есениным читаем в Ростове, в Таганроге. В Новочеркасске после громовой статьи местной газеты, за несколько часов до начала, лекция запрещается.
На этот раз не спасает ни желтая гастевская кобура, ни карта местности на полевой сумке, ни цейсовский бинокль.
Газета сообщила неправдоподобнейшую историю имажинизма, «рокамболические» наши биографии и, под конец, ехидно намекнула о таинственном отдельном вагоне, в котором разъезжают молодые люди, и о боевом администраторе, украшенном ромбами и красной звездой.
С «Почем солью» после такой статьи стало скверно.
Отдав распоряжение «отбыть с первым отходящим», он, переодевшись в чистые исподники и рубаху, лег в своем купе — умирать. <. >
Мы лежали в своем купе. Есенин, уткнувшись во флоберовскую «Мадам Бовари». Некоторые страницы, особенно его восторгавшие, читал вслух.
В хвосте поезда вдруг весело загалдели. От вагона к вагону пошел галдеж по всему составу.
Мы высунулись из окна.
По степи, вперегонки с нашим поездом, лупил обалдевший от страха перед паровозом рыжий тоненький жеребенок.
Зрелище было трогательное. Надрываясь от крика, размахивая штанами и крутя кудлатой своей золотой головой, Есенин подбадривал и подгонял скакуна. Версты две железный и живой конь бежали вровень. Потом четвероногий стал отставать, и мы потеряли его из виду.
Есенин ходил сам не свой. <. >
А в прогоне от Минеральных до Баку Есениным написана лучшая из его поэм — «Сорокоуст». Жеребенок, пустившийся в тягу с нашим поездом, запечатлен в образе, полном значимости и лирики, глубоко волнующей.
В Дербенте наш проводник, набирая воду в колодце, упустил ведро.
Есенин и его использовал в обращении к железному гостю в «Сорокоусте»:
Жаль, что в детстве тебя не пришлось
Утопить, как ведро в колодце.
В Петровском Порту стоял целый состав малярийных больных. Нам пришлось видеть припадки, поистине ужасные. Люди прыгали на своих досках, как резиновые мячи, скрежетали зубами, обливались потом, то ледяным, то дымящимся, как кипяток.
Трясет стальная лихорадка!
У меня тропическая лихорадка — лежу пластом. Есенин уезжает в Москву один, с красноармейским эшелоном. <. >
Сидели в парке Эрмитажа. Подошел Жорж Якулов.
— Где она. где? — Есенин даже привскочил со скамьи.
Есенин не хотел верить, что Дункан ушла. Был невероятно раздосадован и огорчен без меры.
Теперь чудится что-то роковое в той необъяснимой и огромной жажде встречи с женщиной, которую он никогда не видел в лицо и которой суждено было сыграть в его жизни столь крупную, столь печальную и, скажу более, столь губительную роль.
Спешу оговориться: губительность Дункан для Есенина ни в какой степени не умаляет фигуры этой замечательной женщины, большого человека и гениальной актрисы.
Месяца три спустя Якулов устроил вечеринку у себя в студии.
В первом часу ночи приехала Дункан 13.
Красный, мягкими складками льющийся хитон, красные с отблеском меди волосы, большое тело, ступающее легко и мягко.
Она обвела комнату глазами, похожими на блюдца из синего фаянса, и остановила их на Есенине.
Маленький нежный рот ему улыбнулся.
Изадора легла на диван, а Есенин у ее ног.
Она окунула руку в его кудри и сказала:
Потом поцеловала его в губы.
И вторично ее рот, маленький и красный, как ранка от пули, приятно изломал русские буквы:
Она танцевала нам танго «Апаш».
Апашем была Изадора Дункан, а женщиной — шарф.
Страшный и прекрасный танец.
Узкое и розовое тело шарфа извивалось в ее руках. Она ломала ему хребет, судорожными пальцами сдавливала горло. Беспощадно и трагически свисала круглая шелковая голова ткани.
Дункан кончала танец, распластав на ковре судорожно вытянувшийся труп своего призрачного партнера.
Есенин был ее повелителем, ее господином. Она, как собака, целовала руку, которую он заносил для удара, и глаза, в которых чаще чем любовь горела ненависть к ней.
И все-таки он был только партнером, похожим на тот кусок розовой материи, безвольный и трагический.
Она танцевала. Она вела танец. <. >
Весной 1922 года Есенин с Дункан на одном из первых юнкерсов, начавших пассажирские воздушные рейсы Москва — Кенигсберг, улетели за границу.
В последний час мы обменялись прощальными стихотворениями 14. <. >
Оба стихотворения оказались в какой-то мере пророческими.
По возвращении «наша жизнь» оборвалась — «мы» раздвоились на я и он.
Однако творчество обоих поэтов было и в те годы глубоко различным по своей природе. Паясничание и показной цинизм в стихах А. Б. Мариенгофа причудливо переплетались со строками вроде «Святость хлещем свистящей нагайкой» и призывами к массовому террору. Все это не имело ничего общего с творчеством Есенина. Об этом нередко говорили критики уже и в то время. Один из них даже писал: «Никакая каторга с ее железными цепями не укрепит и не свяжет этих заклятых врагов не на жизнь, а на смерть. Сам же Мариенгоф проводит резкую непереходимую черту между творчеством обоих мнимых друзей» (Львов-Рогачевский В. Л. Имажинизм и его образоносцы. М., 1921, с. 46). С течением времени несовместимость идейно-творческих установок поэтов давала себя знать все острее. И хотя статья Есенина «Быт и искусство», в которой он сделал резкий выпад против своих «собратьев»-имажинистов, была конкретно направлена в значительной мере против В. Г. Шершеневича, он явно имел в ней в виду и А. Б. Мариенгофа.
Резко обострились их отношения после возвращения Есенина из-за рубежа. Отказываясь печататься в имажинистском журнале «Гостиница для путешествующих в прекрасном», Есенин презрительно именовал его «мариенгофским» (VI, 142). Полный разрыв в отношениях произошел летом 1924 года. В октябре 1925 года Есенин сам пришел к А. Б. Мариенгофу «мириться», было еще несколько эпизодических встреч, в декабре А. Б. Мариенгоф и его жена А. Б. Никритина навестили Есенина в клинике, но все это было лишь формальным примирением, дружеские отношения не восстановились.
Впервые воспоминания А. Б. Мариенгофа о Есенине были опубликованы в 1926 году отдельным изданием в «Библиотеке «Огонька». Они были в целом благожелательно встречены критикой. Даже такой журнал, как «На литературном посту» (1926, № 7—8), отмечал, что воспоминания «написаны с большой нежностью и дают ряд интересных черт из жизни покойного поэта». Но в следующем, 1927 году появился «Роман без вранья», который был воспринят всеми знавшими Есенина как клевета на него.
В 1950-е годы А. Б. Мариенгоф написал новые воспоминания «Роман с друзьями». Несколько вариантов этой рукописи хранится в различных архивах страны. Фрагменты были опубликованы в РЛ, 1964, № 4, и журн. «Октябрь», М., 1965, № 10, 11.
В наст. изд. включены отрывки из кн.: Мариенгоф А. Воспоминания о Есенине. М., 1926. Печатаются по тексту этого издания с учетом исправлений, внесенных автором при включении соответствующих фрагментов в «Роман без вранья». Датируются по первой публикации.
2 Перечислены отдельные темы, которые Есенин развивал в статье «Ключи Марии».
3 «Утлым суденышком» А. Б. Мариенгоф называет книжный магазин на Большой Никитской (ныне — ул. Герцена), который был им и Есениным создан на кооперативных началах в 1919 г. «В первые годы революции, — вспоминал Н. С. Ашукин, — когда было открыто несколько книжных лавок на кооперативных началах, Д. С. <Айзенштат> организовал книжную лавку поэтов-имажинистов на Большой Никитской. Пайщиками лавки были Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф и А. М. Кожебаткин, но душой всего дела был Д. С. В эту пору у Д. С. установились дружеские отношения с Сергеем Есениным. Памятью этих отношений являются надписи, сделанные Есениным на книгах своих стихов, подаренных им Д. С. в 1921 году. На книге «Сельский часослов» написано: «Давиду Самойловичу Айзенштату на добрую память С. Есенин». На книге «Исповедь хулигана»: «Дорогому Давиду Самойловичу. Доброй няненьке с любовью С. Есенин» (сб. «Книга», кн. 46. М., 1983, с. 138).
4 Рассказ об этом эпизоде содержался в утраченной ныне рукописи первой автобиографии Есенина. Видевший эту рукопись журналист свидетельствует, что при публикации было «пропущено описание того, как к Есенину пришли гости и так как не было щепок, то самовар поставили, расколов для этого две иконы, и «мой друг не мог пить этого чая» («Литературное приложение» № 11 к газ. «Накануне», Берлин, 1922, 30 июля). См. также примеч. 1 к воспоминаниям И. И. Старцева.
5 Из стихотворения «В том краю, где желтая крапива. ».
6 Из стихотворения «Хорошо под осеннюю свежесть. ». Стихотворение датировано автором не 1919-м, а 1918 г.
7 В Харьков Есенин вместе с А. Б. Мариенгофом и А. М. Сахаровым выехал 23 марта 1920 г. и вернулся в Москву в середине апреля.
8 Из письма к Л. И. Повицкому 1919 г. В письме Есенин приводит (с неточностями) отрывок из поэмы А. Е. Крученых «Пустынники».
9 Евгения Исааковна Лившиц, ее сестра Маргарита Исааковна и их подруги.
10 Шуточное прозвище Есенина. А. Б. Мариенгоф рассказывает, что художник Дид Ладо читал доклад и «карандашом доказывал сходство всех имажинистов с лошадьми: Есенин — Вятка, Шершеневич — Орловский, я — Гунтер».
11 Другую версию возникновения этого стихотворения приводит в своих воспоминаниях Л. И. Повицкий.
12 На Кавказ Есенин вместе с А. Б. Мариенгофом выехал около 5 июля 1920 г. С 8—11 июля до 5 августа они были в Ростове-на-Дону. Затем выехали в Пятигорск и Кисловодск и оттуда отправились в Баку. В Москву Есенин вернулся в первой половине (до 19) сентября.
13 Эта встреча Есенина и А. Дункан состоялась, видимо, 3 октября 1921 г. «Сегодня год, как он увидел А.», — записала в своем дневнике Г. А. Бениславская 3 октября 1922 г.
14 В «Романе без вранья» А. Б. Мариенгоф рассказывает, что этот обмен стихотворениями состоялся за три дня до вылета Есенина и А. Дункан в Германию, т. е. не 10-го, а 7 мая 1922 г. В этот день А. Б. Мариенгоф и А. Б. Никритина уезжали на Кавказ. «С. А. Есенин в воспоминаниях современников» в 2-х тт., М., «Художественная литература», 1986.
Комментарии
Добавить комментарий
Комментарии, не имеющие прямого отношения к теме статьи, содержащие оскорбительные слова, ненормативную лексику или малейший намек на разжигание социальной, религиозной или национальной розни, а также просто бессмысленные, ПУБЛИКОВАТЬСЯ НЕ БУДУТ.