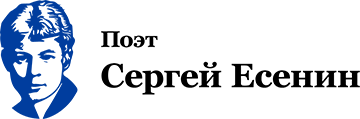Стих есенина вечером синим
24.01.2018Есенин стихи 1924
24.01.2018Мариенгоф стихи есенину
Утром 28 декабря 1925 года Сергей Есенин был найден мёртвым в номере ленинградской гостиницы «Англетер». На другой день сообщение о его смерти опубликовала газета «Известия». Писатель Матвей Ройзман в своих воспоминаниях (М. Д. Ройзман. «Всё, что помню о Есенине».— М.: Издательство «Советская Россия».— 1973) написал о том, как о смерти Есенина узнал его близкий друг Анатолий Мариенгоф:
29 декабря я сдавал мой очерк заместителю редактора «Вечерней Москвы» Марку Чарному. Он сказал мне, что в «Англетере» покончил жизнь самоубийством Есенин…
Мне пришло в голову, что, может быть, Сергей только покушался на самоубийство, и его спасли. Я вышел из редакции, бежал до первого извозчика, и он, понукаемый мной, быстро довёз меня до «Мышиной норы». Я застал там Мариенгофа. Услыхав страшную весть, он побледнел. Мы решили её проверить, стали звонить по телефону в «Известия», но не дозвонились. Мы отправились по Неглинной в редакцию газеты и по пути, в Петровских линиях, встретили Михаила Кольцова. Он подтвердил, что «Правда» получила то же самое сообщение о смерти Есенина. Я увидел, как слёзы покатились из глаз Анатолия…
В среду, 30 декабря, гроб с телом Есенина поездом доставили в Москву. Весь тот день в Доме печати с Есениным прощались его родственники, его близкие, его поклонники — все, кто его знал и любил. Тем же днём датировано и стихотворение Анатолия Мариенгофа — Есенин ещё не был похоронен, когда писались эти строки:

Похороны состоялись 31 декабря — в предпраздничный последний день уходившего года. Не правда ли, в этом было что-то жуткое, нелепое и немного отчего-то постыдное. Новый 1926 год переступал через Есенина, словно проводя незримую черту между ним и теми, кто остался…
Я плакал в последний раз, когда умер отец. Это было более семи лет тому назад. И вот снова вспухшие красные веки. И снова негодую на жизнь.
Через пятьдесят минут Москва будет встречать Новый год.
Те же люди, которые только что со скорбным видом шли за гробом Есенина и драматически бросали чёрную горсть земли на сосновый ящик с его телом, опущенный на верёвках в мерзлую яму, — те же люди сейчас прихорашиваются, вертятся перед зеркалами, пудрятся, душатся и нервничают, завязывая галстуки. А через пятьдесят минут, то есть ровно в полночь, они будут восклицать, чокаясь шампанским! «С Новым годом! С новым счастьем!»
Я говорю Никритиной:
Она поднимает руки, уроненные на колени, и кладёт их на стол, как две тяжёлые книги.
Это строки из воспоминаний Анатолия Мариенгофа, впервые опубликованных в 1965 году, уже после его кончины, последовавшей в июне 1962 года. Анна Никритина, жена и верная спутница Мариенгофа на протяжении десятилетий, пережила его 20 лет.
 Собственно говоря, в 1965 году была опубликована (в журнале «Октябрь») лишь неполная и, к тому же, хорошенько припудренная цензурой версия тех мемуаров, над которыми Анатолий Мариенгоф работал в последние годы жизни — опубликована под странным названием «Роман с друзьями» (полностью эти воспоминания Мариенгофа, под названием «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги», были изданы лишь в 1988 году).
Собственно говоря, в 1965 году была опубликована (в журнале «Октябрь») лишь неполная и, к тому же, хорошенько припудренная цензурой версия тех мемуаров, над которыми Анатолий Мариенгоф работал в последние годы жизни — опубликована под странным названием «Роман с друзьями» (полностью эти воспоминания Мариенгофа, под названием «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги», были изданы лишь в 1988 году).
Тогда, в 1965 году, подобное название должно было, вероятно, вызывать у очень уж осведомлённого читателя ассоциации с другими мемуарами Анатолия Мариенгофа, появившимися четырьмя десятками лет ранее, — с его «Романом без вранья», опубликованным в 1927 году.
А первый набросок скандально известного потом «Романа без вранья», под названием «О Сергее Есенине. Воспоминания», был опубликован всего через несколько месяцев после того нелепого, иррационального и жуткого новогоднего вечера. С тех пор разве что ленивый не пинал Мариенгофа за его воспоминания — начиная с хлёсткого и остроумно-безапелляционного определения «враньё без романа» и заканчивая грозно-сдержанной и чеканной формулировкой составителей «Литературной энциклопедии», последний том которой вышел в 1939 году:
Кроме стихов М. выпустил автобиографический «Роман без вранья», посвящённый главным образом интимным сторонам жизни Есенина и своей собственной. Эгоцентрическая развязность, самовлюблённость, склонность к дешёвой сенсации делают эту книгу одновременно и бульварно-мещанским «чтивом» и демонстрацией опустившегося буржуа против нового уклада жизни, создаваемого революцией.
Максим Горький, мудрый наставник всех советских писателей, зрил в корень: «Автор — явный нигилист; фигура Есенина изображена им злостно, драма — не понята…» . (Максим Горький, как известно, был очень мудр: он знал и понимал всё. Даже то, чего не знал и не понимал…). «Мы не найдём здесь искренней любви и уважения к поэту…» , — вторит «наставнику» Евгений Наумов, специалист по Есенину. И замыкает этот круг — уже в наши дни — эмоциональный комментарий безвестного участника (или участницы) есенинского форума:
Лично у меня этот роман С ВРАНЬЁМ вызвал чувство отвращения к автору, т.е. к Мариенгофу! Главное, что бесит, так это то, что Есенина он показал в тёмных красках, в то время как себя, любимого, изобразил подобно ангелу. Ещё Горький отмечал, что мариенгофский роман оставляет желать лучшего. Потому как Анатолий Борисович преподнёс читателю искажённый и гнусно выдуманный образ Есенина!
… Знаете, когда я читаю об отсутствии «искренней любви и уважения», об «искажении образа» и о «злостном изображении», то волей-неволей вспоминаю сатирическую «Автобиографию» блестящего сербского писателя и драматурга Бранислава Нушича, который, поясняя причины написания им именно авто биографии, приводит (разумеется, в шутку) следующий факт:
Помню, например, один случай, свидетелем которого я был и о котором позднее мне довелось читать.
Однажды утром пьяный в доску поэт-лирик Н.Н. встретился со своим будущим биографом. При жизни великий покойник часто бывал свиньёй, и на этот раз он так нализался, что не мог найти дорогу домой.
— Послушай, друг, — говорил он, стараясь сохранить равновесие и всей тушей наваливаясь на будущего биографа,— люди скоты: пили вместе, а теперь бросили меня одного, и домой отвести некому. А я, видишь ли, на небе могу найти Большую Медведицу, а вот дом свой, хоть убей, не найду.
Об этом же эпизоде в биографии («Воспоминания о покойном Н.Н.») говорилось так: «Однажды утром встретил я его печального и озабоченного; чело его было мрачно, а глаза, те самые глаза, которыми он так глубоко проникал в человеческую душу, были полны невыразимой печали и упрёка. Я подошёл к нему, и он, опираясь на моё плечо, сказал: «Уйдём, уйдём поскорее из этого мира. Все друзья покинули меня. Ах, мне легче найти путь на небо, чем отыскать дорогу в этом мире. Я чувствую себя одиноким, уведи меня отсюда, уведи!»
Вслед за этим биограф предлагал читателю обширные комментарии, показывающие всю глубину мысли покойного…
А что — так было бы лучше.
Мемуарная литература — к сожалению или к счастью — не является милицейским протоколом. Это именно что литература , за строчками которой всегда стоит личность автора. Мемуары Мариенгофа совершенно уникальны потому, что их писал человек безупречного вкуса, острого ума и высокой порядочности. Люди, с которыми он, бывало, ел из одной тарелки, спал под одним одеялом и, простите, делил один туалет, были для него именно людьми , близкими и любимыми — не схемами, не цитатами, не ходячими драмами. «Мы любили его таким, каким он был» , — эти слова Мариенгофа объясняют всё…
Стихотворение «Там» было написано Мариенгофом уже в 40-е годы, после его страшной личной трагедии — смерти единственного сына Кирилла. Но пишет он тут не только о сыне. Обо всех тех, любимых и близких ему людях, кто остался там :
И что ещё надо иметь в виду: о близких и любимых людях не функция какая-нибудь писала, не программа — писал человек . Интеллигентный. Сильный. Порою слабый. Нередко насмешливый — и над собой тоже. Немало в жизни всякого повидавший. Сдержанный. Порою несдержанный. Человек, сказавший о самом себе: «Больше всего на свете я ненавижу ханжей». Человек, который уже перед лицом собственной смерти написал:
И сегодня — на пороге старости — скажу, как в юности:
— Тот, кто враг моей «Бессмертной трилогии» (то есть «Романа без вранья», «Моего века…» и вот этой книги), — тот мой враг.
Правда, покамест врагов у последних двух вещей совсем мало. Пожалуй, одна Вера Фёдоровна Панова. Ведь читают по рукописи, и только избранные. Чаще всего, разумеется, избранные мной.
Панова прочла как редактор «Ленинградского альманаха».
Не желая показать свою совершенно нормальную трусость в этой должности, она предпочла прикинуться дурой.
А это ей трудно.
«И сегодня — на пороге старости — скажу, как в юности: «Тот, кто враг […] «Романа без вранья», «Моего века…» и вот этой книги, — тот мой враг» …
Стало быть, десятилетия отборнейших проклятий, которыми осыпали Мариенгофа все кому не лень, от высокого профессионала до самого распоследнего любителя, — прошли для него даром.
Стало быть, и до самого своего конца он продолжал упорствовать в том, о чём ещё в конце 20-х годов написал в своём изумительном романе «Циники»: «Любовь, котоpую не удушила pезиновая кишка от клизмы, — бессмеpтна» .
Стало быть, Мариенгоф так и умер, ничегошеньки не поняв и не покаявшись.
Стало быть, кое-что придётся понимать уже нам, живущим. И я благодарен другой участнице упомянутого выше есенинского форума, которая написала там следующие слова:
Когда [я] читала вторую часть «Романа без…», [то] сердце холодело и начинало болеть — настолько Мариенгоф стилистически сильно описывал разные состояния Есенина. Такое нельзя придумать, такое можно только пережить, и [я] вместе с ним видела всё это. […]
Конешно, Толя любил себя, и уважал себя как космос, как вселенную, и имел свою точку зрения на произошедшие события. И, как ни странно, я не увидела в «Романе без…» уж очень страшных искажений [образа] С. А.
Через этот роман я полюбила Есенина ещё сильнее, а Мариенгоф стал любимым писателем. А верю, не верю — неважно это… во всяком случае для меня.
«Через этот роман я полюбила Есенина ещё сильнее» … Умница. Спасибо ей за эти слова…
«Книга», о которой Мариенгоф говорит в приведённой выше пространной цитате, — это самые последние рукописные тетради его воспоминаний. Они озаглавлены — «Это вам, потомки».
«Роман без вранья», «Мой век, мои друзья и подруги» и эту рукопись я бы хотел издать под одной обложкой.
Вот название. Вероятно, сделать это придётся уже после меня. «Aprés moi», как говорят французы.
«Aprés moi», да… Впервые эта его рукопись была издана, кажется, только лишь в 1994 году, через тридцать с лишним лет после его смерти (а вся «Бессмертная трилогия» вместе — лишь в 1998 году). В качестве эпиграфа к своей рукописной книге Мариенгоф взял коротенькую строчку из стихотворения Вадима Шершеневича — одного из тех, кто остался там и кого не было чудесней : «Итак, итог».
Собственно говоря, обе неизданные при жизни Мариенгофа рукописи его воспоминаний — и «Мой век, мои друзья и подруги», и «Это вам, потомки» — разделить можно только весьма условно. И по форме своей, и по стилю, и по содержанию — они перекликаются, переплетаются, переходят друг в друга совершенно естественно. В сущности, это единое и неразрывное целое.
Конечно, в своих воспоминаниях Мариенгоф много говорит о людях, с которыми ему довелось встречаться — людях очень известных и известных не особенно. Памятуя всё же горький опыт «Романа без вранья», он начинает воспоминания с таких вот слов:
Говорят: дух, буква. В этих тетрадях всё верно в «духе». Я бы даже сказал — всё точно. А в букве? Разумеется, нет. Какой бы дьявольской памятью человек ни обладал, он не может буквально запомнить фразы и слова, порой сказанные полстолетия тому назад! Но суть, смысл, содержание диалогов сохранились в неприкосновенности. Такова человеческая память. В этом наше счастье, а иногда беда .
Но мемуары Мариенгофа ведь интересны не только (и даже не столько) какими-то фактами. Вовсе нет! Они необычайно интересны и сами по себе, вне всяких фактов, — как только может быть интересно общение с умным, ярким, наблюдательным и мыслящим человеком.
Они заставляют нас думать. Они вкусны . Знаете, тут мне вспомнилось короткое замечание самого Мариенгофа (из рукописи «Это вам, потомки»):
Мысль Толстого, Чехова, Достоевского всегда хочется «закусить» собственной мыслью.
В этом, пожалуй, самое большое достоинство хорошей литературы.
Мемуарные рукописи Анатолия Мариенгофа теперь уже, разумеется, изданы и переизданы, да и в Интернете они доступны без труда. И всё же мы решили предложить читателям «Солнечного ветра» хотя бы отдельные их фрагменты — без этого наша книжная полка была бы неполна. Фрагменты эти будут опубликованы у нас под общим названием «Как цирковые лошади по кругу…». Это название (строка из собственного стихотворения), как писал сам Мариенгоф, «мне больше нравится, чем безразличное «Мой век, мои друзья и подруги» .
В нашем цикле «Как цирковые лошади по кругу…» фрагменты воспоминаний Мариенгофа будут публиковаться, по возможности, цельными законченными кусками и в той их последовательности, которая присутствует у автора. Наши комментарии отделены от текста Мариенгофа рамочкой:
Комментарии и пояснения редактора «Солнечного ветра».
Переход между отдельными страничками можно сделать по ссылкам меню, расположенным вверху и внизу каждой из них. Например, ссылка на страничку «Миклашевская» соответствует тем фрагментам воспоминаний, которые посвящёны Августе Миклашевской, есенинской «музе из Камерного театра». Названия всех таких страничек принадлежат редактору этой публикации.
Все иллюстрации к публикуемым здесь фрагментам подобраны нами. Тексты воспоминаний Мариенгофа приводятся по следующему изданию: Анатолий Мариенгоф. «Бессмертная трилогия».— М.: Вагриус, 2006.— 510 с.; ил.
А закончить мне хотелось бы небольшим кусочком из воспоминаний Анатолия Мариенгофа:
Вот я и доигрываю свою последнюю сцену. Если бы в наши дни вдруг люди стали говорить таким же высоким слогом, как Шекспир, то через несколько реплик, как мне думается, должен прозвучать следующий диалог:
Гораций . Покойной ночи, милый друг. Пусть ангелы баюкают твой сон.
Мариенгоф . Ха-ха — ангелы! (Умирает.)
После этого с барабанным боем входит Фортинбрас (то есть секретарь по административной части Союза советских писателей). Потом — траурный марш и… труп уносят.
Очень смешно. Правда?
Вот в этих строках — весь Мариенгоф…