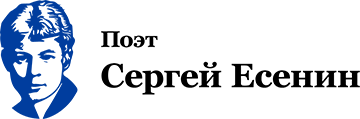Унесу я пьяную до утра в кусты
24.01.2018Настоящие стихи есенина
24.01.2018МУЗА ПОЭТА
Августа Миклашевская (1891-1977)
Сергей Есенин… По выражению М. Горького, «он был не человек, а орган, созданный природой исключительно для поэзии…». Настоящий поэт… Как выразить сущность человека, имеющего это божественное звание?
«Быть поэтом — это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души»
Эти слова поэта являются самым точным отражением его предназначения. Он ласкал души людей около 100 лет назад, продолжает «ласкать и карябать» до сих пор, и это будет продолжаться еще много веков, пока будет существовать «шестая часть Земли с названьем кратким — Русь».
Как говорил Сергей Александрович: «Я сердцем никогда не лгу…». Вся его настоящая духовная жизнь в его стихах. Ни один поэт не написал о себе столько безжалостных и горьких строк. Его стихи, как сказал Николай Доризо, «выдышаны», так естественно их дыхание. Чтобы писать настоящие стихи, поэт должен иметь постоянное состояние восторженности, любви или ненависти. А чтобы писать прекрасные стихи о любви, нужно быть влюбленным человеком. И только музы дают поэту это состояние.
Кто была эта женщина, покорившая сердце поэта? Необыкновенно красивая и скромная актриса Московского камерного драматического театра под руководством А. Я. Таирова. Театральную карьеру она начала в Ростове-на-Дону, сыграв роль Софьи в спектакле «Горе от ума». Её современники  считали, что она была хорошей актрисой и первой красавицей камерного театра. «Не полная, не тонкая. Античная, я бы сказал. Ну, Афродита, что ли. Голова, нос, рот, уши — точёные. Глаза, поражающие в своем широком и свободном разрезе, безукоризненном по рисунку. Волосы цвета воробьиного крыла (впоследствии Есенин их в стихах «позолотил»). Крупная, статная, вроде Айседоры, но на двадцать лет моложе». Такой она представлялась имажинисту и другу Есенина Анатолию Мариенгофу. Негромко говорила, негромко смеялась, больше пленительно улыбалась. Есть женщины такие: она еще только войдет, еще ничего не скажет, — а к ней все взоры прикованы — такая необыкновенная магия красоты, нежной прелести. И еще… Грусть и печаль, будто легким флёром, таинственным и притягательным, покрывали её черты. Друзья звали Августу Гутей.
считали, что она была хорошей актрисой и первой красавицей камерного театра. «Не полная, не тонкая. Античная, я бы сказал. Ну, Афродита, что ли. Голова, нос, рот, уши — точёные. Глаза, поражающие в своем широком и свободном разрезе, безукоризненном по рисунку. Волосы цвета воробьиного крыла (впоследствии Есенин их в стихах «позолотил»). Крупная, статная, вроде Айседоры, но на двадцать лет моложе». Такой она представлялась имажинисту и другу Есенина Анатолию Мариенгофу. Негромко говорила, негромко смеялась, больше пленительно улыбалась. Есть женщины такие: она еще только войдет, еще ничего не скажет, — а к ней все взоры прикованы — такая необыкновенная магия красоты, нежной прелести. И еще… Грусть и печаль, будто легким флёром, таинственным и притягательным, покрывали её черты. Друзья звали Августу Гутей.
Познакомила Миклашевскую с Есениным актриса Камерного театра Анна Борисовна Никритина, жена Анатолия Мариенгофа. Так она описывает первую встречу с ним: «Мы встретили поэта на улице Горького (тогда Тверской). Он шел быстро, бледный, сосредоточенный. Сказал: «Иду мыть голову. Вызывают в Кремль». У него были красивые волосы — пышные, золотистые. На меня он почти не взглянул. Это было в конце лета 1923 года, вскоре после его возвращения из поездки за границу с Дункан».
С. А. Есенин приехал из-за границы опустошенным и разочарованным всем увиденным там, истосковавшимся по России, русским людям, родным местам, нашей особенной природе, уставшим от Айседоры, чувства к которой уже совсем остыли. Многое их разделяло — и большая разница в возрасте, и бурный темперамент актрисы, да еще и то, что нельзя было даже поговорить. С женщиной, с которой он жил вместе почти два года, объездил весь свет он практически и не разговаривал: она не знала русского, а он — английского. Он вообще разуверился, разочаровался в женщинах и уж совсем не ожидал найти в них друга, и уж совсем не ожидал найти в них друга. Вместо обретения счастья поэт получил разочарование и душевную усталость. Их недолгий семейный союз был изначально обречен на разрыв. Настроение поэта после возвращения на Родину можно было бы выразить как обретение свободы.
Потом были встречи на квартире А. Мариенгофа, где временно проживал и Есенин, не имевший своего угла в Москве. Чувство вспыхнуло сразу. Вспоминает Августа Леонидовна: «Помню, как первый раз он пришел ко мне. Я сидела в кресле, а он сидел на ковре, держал мои руки и говорил: „Красивая, красивая. “»
Вскоре Августа стала грозной соперницей Айседоре Дункан, которая еще оставалась официальной женой поэта. Целый месяц они встречались ежедневно, ездили за город и там подолгу гуляли. «Это был август. ранняя золотая осень. Под ногами сухие желтые листья. Как по ковру бродили по дорожкам и лугам. И тут я узнала, как Есенин любит русскую природу. Долго бродили по Москве, он был счастлив, что вернулся домой, в Россию. Радовался всему, как ребенок. Трогал руками дома, деревья. Уверял, что все, даже небо и луна другие, чем там. Рассказывал, как ему трудно было за границей, и вот он «все-таки удрал!» «Он в Москве!». Этими встречами навеяны строки:
Я помню осенние ночи,
Березовый шорох теней,
Пусть дни тогда были короче,
Луна нам светила длинней!
Я поняла, что никакая сила не могла оторвать его от России, от русских людей, от русской природы, от русской жизни, какой бы она ни была трудной».
 Есенин с головой бросился в прекрасное, неведомое доселе, чувство всеобъемлющей духовной близости с женщиной. «В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить…». Эта удивительная женщина умела так необыкновенно слушать и понимать, и так смотреть, ласково и нежно! Тихая печаль, грусть, нежность — все это было свойственно им обоим. Он сам удивлялся — в нем вновь проснулась нежность, чувство, давно им позабытое. Они уже пережили немало до этой встречи разочарований в любви, и не так уж билось его «сердце, тронутое холодком». Тем дороже было необыкновенное воздушное и трепетное чувство, так нежданно-негаданно к нему пришедшее. Они понимали друг друга. Всем бросалось в глаза, как удивительно преобразило поэта высокое чувство к Августе Леонидовне. Особенно трогательно было видеть, каким тихим становился Есенин рядом с этой женщиной, словно именно в эти мгновенья он мог вздохнуть свободно и сказать с облегчением «и душа моя, море безбрежное, дышит запахом меда и роз. ». Рядом с ней нельзя было быть грубым, дерзким, циничным. Он снова очарован, околдован. А говорил: «Кто сгорел, того не подожжешь». Это был очень красивый и необычный роман.
Есенин с головой бросился в прекрасное, неведомое доселе, чувство всеобъемлющей духовной близости с женщиной. «В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить…». Эта удивительная женщина умела так необыкновенно слушать и понимать, и так смотреть, ласково и нежно! Тихая печаль, грусть, нежность — все это было свойственно им обоим. Он сам удивлялся — в нем вновь проснулась нежность, чувство, давно им позабытое. Они уже пережили немало до этой встречи разочарований в любви, и не так уж билось его «сердце, тронутое холодком». Тем дороже было необыкновенное воздушное и трепетное чувство, так нежданно-негаданно к нему пришедшее. Они понимали друг друга. Всем бросалось в глаза, как удивительно преобразило поэта высокое чувство к Августе Леонидовне. Особенно трогательно было видеть, каким тихим становился Есенин рядом с этой женщиной, словно именно в эти мгновенья он мог вздохнуть свободно и сказать с облегчением «и душа моя, море безбрежное, дышит запахом меда и роз. ». Рядом с ней нельзя было быть грубым, дерзким, циничным. Он снова очарован, околдован. А говорил: «Кто сгорел, того не подожжешь». Это был очень красивый и необычный роман.
Есенин мечтал о жене, о настоящей подруге и соратнице «…ты одна сестра и друг, могла быть спутницей поэта»… Но, к сожалению, Августа не горела таким огнем, как Есенин. Она считала себя холодной женщиной и Есенин это хорошо чувствовал: «Ты прохладой меня не мучай…». Первого своего мужа Миклашевского, с которым прожила совсем недолгого, она не любила. Лишь однажды в жизни она потеряла голову, полюбив танцовщика Большого театра Льва Лощилина. Об этом периоде жизни она рассказывала: «Тогда я чудом осталась жить. Ко мне пришла женщина, стала говорить о своей любви к отцу моего будущего ребенка: «Как Вы можете с ним предаваться любви, когда я вся в слезах ползаю на коленях», — потом вынула пистолет, который всё время держала в руке в своей сумочке, и выстрелила в меня. Сначала не попала. Я стала пробираться к двери. Она опять выстрелила. И только на лестнице, когда я увидела её перекошенное дикое лицо, я испугалась и закричала, и меня всю в крови втащила в свою квартиру моя соседка и захлопнула дверь. Отец моего ребёнка ещё до его появления сказал мне: «Тебе будет трудно воспитывать его. Подумай об этом». Меня тогда обидели эти слова, было горько их услышать от близкого человека. Но я хотела иметь ребёнка и сказала: «Ребёнок мой, и я сумею его вырастить сама». Действительно, так и было. Все заботы о сыне легли на меня…». Семья не получилась, распалась, так и не успев сложиться. Остался любимый сын, которому Августа посвящала всю свое свободное время. Но она продолжала любить этого лысеющего профессионального танцора, который был ей «приходящим мужем». К Есенину же у нее было романтическое и по-матерински теплое чувство, его невозможно было не любить по-своему, не любоваться им и не восхищаться его поэзией. Это была чистая и «нелепая» по ее выражению дружба «…Я ведь очень трудно жила, — рассказывает Августа Леонидовна, — и ко времени встречи с Есениным была очень измученной и усталой. У меня была основная забота — прокормить себя и ребёнка. Мне приходилось оставлять сына одного, когда уходила в театр. После репетиций, представлений скорей бежала домой, тревожась за малыша. Не работать нельзя было. Средств не было». Есенин о ее затруднениях ничего не знал.
«Как-то сидели в отдельном кабинете ресторана «Медведь» Мариенгоф, Никритина, Есенин и я. Мне надо было позвонить по телефону. Есенин вошел со мной в будку. Он обнял меня за плечи. Я ничего не сказала, только повела плечами, освобождаясь из его рук. Когда вернулись, Есенин сидел тихий, задумчивый. «Я буду писать Вам стихи». Мариенгоф засмеялся: «Такие же, как Дункан?» — «Нет, ей я буду писать нежные…»»
Ему самому нравились слова: «Что ж так имя твоё звенит, словно августовская прохлада», и он часто повторял их… Августу поражало, как Есенин мог понять её состояние. Она не могла его полюбить, и он это почувствовал:
«Знаю, чувство моё перезрело,
А твоё не сумеет расцвесть».
Свидания-встречи с Есениным проходили в разных уголках Москвы.
«Однажды он ждал меня у кафе «Стойло Пегаса», чтобы подарить мне новые стихи, опубликованные в одном из лучших журналов той поры — «Красной нови». Помню, что был очень холодный день. Поэт стоял у входа в кафе — в темном длинном пальто и летних модных ботинках. Шею окутывал широкий красный шарф, похожий на вспыхнувшее пламя. В руках он держал нежные, еще не до конца распустившие розы и журнал со стихами. Несмотря на то, что я опоздала на целых сорок минут — не смогла прийти вовремя из-за того, что была на репетиции, — все равно Сережа был рад, что я пришла. Он ничуть не роптал, а вручил мне изумительные цветы и журнал, тихо, почти шепотом, сказал: «Там стихи о тебе». Цикл открывался стихотворением «Заметался пожар голубой…». Мы вошли в кафе. Сели за столик. Тут же нас окружили знакомые поэты, актеры и художники. Потом началась шумная застолица. Просидели мы в кафе чуть ли не до рассвета. Сергея просили читать стихи. Декламировал превосходно, как говорится, «поймал кураж»». Аплодисменты были долгими, все время просили читать и читать. Ушли из кафе только на рассвете. Молоды мы были тогда и беспечны».
На именном сборнике «Москва кабацкая» Сергей подписал: «Милой Августе Леонидовне со всеми нежными чувствами, которые выражены в этой книге». После того, как в кафе он торжественно преподнес ей этот сборник, последовал нешуточный скандал. «Он торжественно, стоя, подал мне журнал, Мы сели. За соседним столиком что-то громко сказали грубое по поводу нас. Поэт вскочил. Человек в кожаной куртке схватился за наган. К удовольствию окружающих, начался скандал… Казалось, с каждым выкриком Есенин все больше пьянел. Я очень испугалась за него. Вдруг неожиданно, неизвестно откуда, появилась его сестра Катя. Мы обе взяли его за руки. Он посмотрел нам в глаза и улыбнулся. Мы увезли его и уложили в постель. Я была очень расстроена. Да что там! Есенин заснул, а я сидела над ним и плакала. Вошедший Мариенгоф утешал меня: «Эх вы, гимназистка, вообразили, что сможете его переделать! Это ему не нужно. От вас он все равно побежит к проститутке»».
 Августа Леонидовна хорошо понимала внутреннее состояние поэта, что переделывать Есенина не надо, да и невозможно. Нужно просто дать ему быть самим собой. Она, как могла, отвлекала поэта от кабаков и скандалов. Вспоминая об одном вечере в компании друзей, Миклашевская рассказывает: «Мне очень хотелось сохранить Есенина трезвым на весь вечер, и я предложила всем желающим поздравлять Есенина, а чокаться со мной: «Пить вместо Есенина буду я!» Это всем понравилось, а больше всего самому Есенину. Он остался трезвым и очень охотно помогал мне передергивать и незаметно выливать вино».
Августа Леонидовна хорошо понимала внутреннее состояние поэта, что переделывать Есенина не надо, да и невозможно. Нужно просто дать ему быть самим собой. Она, как могла, отвлекала поэта от кабаков и скандалов. Вспоминая об одном вечере в компании друзей, Миклашевская рассказывает: «Мне очень хотелось сохранить Есенина трезвым на весь вечер, и я предложила всем желающим поздравлять Есенина, а чокаться со мной: «Пить вместо Есенина буду я!» Это всем понравилось, а больше всего самому Есенину. Он остался трезвым и очень охотно помогал мне передергивать и незаметно выливать вино».
Часто они встречались в кафе поэтов на Тверской. Бутылок на столе никогда не было. Сидели вдвоем, разговаривали. Августа Леонидовна так могла слушать, так понять, так утешить мятущуюся душу поэта, как никто другой. Есенин приходил к ней поговорить и преображался. Он тихо читал ей свои новые стихотворения. Сходны были они с Есениным. Держались обычно с достоинством, с благородной простотой. Но не с простоватостью.
«Много говорили о его грубости с женщинами. Но я ни разу не почувствовала и намека на грубость. Он мог часами сидеть смирно возле меня. Комната моя была похожа на рощу из астр и хризантем, которые он постоянно приносил мне. Он был очень человечным. А со мной даже иногда застенчивым, стеснительным. На людях он почти никогда не ел. Прятал руки, они казались ему некрасивыми. «Я с вами как гимназист», — тихо, с удивлением говорил мне Есенин и улыбался. Возможно, что это было обусловлено серьезным любовным чувством ко мне. Ведь если бы его не было, то навряд ли бы он создал такие глубокие, открытые и печальные стихи о любви…».
Есенин любил бывать в доме Августы, он стремился к уюту, ему все здесь нравилось: скромность и доброе отношение другу к другу. У сестры Августы Миклашевской Тамары был маленький ребёнок. Есенин брал его на руки, говорил: «Живи, живи, стихи писать будешь». Он, действительно, когда вырос, писал стихи. В Великую Отечественную он погиб на фронте…
Есенин тосковал о своих детях. Он жаловался Миклашевской: «Анатолий все сделал, чтобы поссорить меня с Райх. Уводил из дома, постоянно твердил, что поэт не должен быть женат. Развел меня с Райх, а сам женился и оставил меня одного».
 Миклашевская рассказывала: «Уезжая за границу, Есенин просил Мариенгофа позаботиться о сестре Кате и в письмах просил о том же. Когда, вернувшись, узнал, что Кате трудно жилось, он обиделся. А может, и еще какая-то причина была, — не знаю. Они поссорились. И все-таки, когда Мариенгоф и Никритина были за границей и долго не возвращались, Есенин пришел ко мне и попросил: «Пошлите этим дуракам денег, а то им не на что вернуться. Деньги я дам, только чтобы они не знали, что это мои деньги». То ворчал, что Мариенгоф ходит в шубе, в бобровой шапке, а жена ходит в короткой кофтенке и открытых прюпелевых туфельках. Возмущался, что Мариенгоф едет в Ленинград в мягком вагоне, а Никритина в жестком…»
Миклашевская рассказывала: «Уезжая за границу, Есенин просил Мариенгофа позаботиться о сестре Кате и в письмах просил о том же. Когда, вернувшись, узнал, что Кате трудно жилось, он обиделся. А может, и еще какая-то причина была, — не знаю. Они поссорились. И все-таки, когда Мариенгоф и Никритина были за границей и долго не возвращались, Есенин пришел ко мне и попросил: «Пошлите этим дуракам денег, а то им не на что вернуться. Деньги я дам, только чтобы они не знали, что это мои деньги». То ворчал, что Мариенгоф ходит в шубе, в бобровой шапке, а жена ходит в короткой кофтенке и открытых прюпелевых туфельках. Возмущался, что Мариенгоф едет в Ленинград в мягком вагоне, а Никритина в жестком…»
Августа Леонидовна говорила: «Не подумайте, что я приукрашиваю его внутреннюю суть, его натуру и характер. Нет! Нет! Он был сложным, даже очень сложным человеком. И храбрецом. Однажды после спектакля, поздней ночью, провожал он меня до дома вместе с Ванечкой Грузиновым. Время было тревожное. Подходим к моему подъезду и видим: стоят какие-то подозрительные типы. Кинулись к нам, — и началась драка. Есенин драться умел: сильный, мускулистый, ловкий был парень. Его белая рубаха, как порхающая бабочка, мелькала в темноте. Если бы не он, то мы вряд ли отбились бы от ночных хулиганов».
 Дела в Камерном театре складывались непросто. Примой была знаменитая, блистательная Алиса Коонен, жена режиссера Таирова. Миклашевская ждала ролей, играла немного, денег катастрофически не хватало, и ей приходилось подрабатывать выступлениями в выездных спектаклях вне Москвы, в концертах, выступать в кафе, в ресторанах и на различных концертах. Осенью 1923 года театр Таирова поехал в Европу на гастроли. Появилась редкая возможность увидеть другой мир, выступить на европейской сцене. Не всех брали в поездку, Миклашевскую — взяли. Но поехать она не смогла из-за болезни сына. Августе стало еще труднее содержать себя и сына. Есенин хотел помочь ей, договорился с Мейерхольдом, что тот возьмет Августу Леонидовну в свой театр. Мэтр знал, ценил актрису и был согласен. Но Миклашевская была очень гордой женщиной и не пошла к нему в театр. О трудностях своих поэту она не рассказывала. Все носила в себе. Только грусти прибавлялось в ее глазах.
Дела в Камерном театре складывались непросто. Примой была знаменитая, блистательная Алиса Коонен, жена режиссера Таирова. Миклашевская ждала ролей, играла немного, денег катастрофически не хватало, и ей приходилось подрабатывать выступлениями в выездных спектаклях вне Москвы, в концертах, выступать в кафе, в ресторанах и на различных концертах. Осенью 1923 года театр Таирова поехал в Европу на гастроли. Появилась редкая возможность увидеть другой мир, выступить на европейской сцене. Не всех брали в поездку, Миклашевскую — взяли. Но поехать она не смогла из-за болезни сына. Августе стало еще труднее содержать себя и сына. Есенин хотел помочь ей, договорился с Мейерхольдом, что тот возьмет Августу Леонидовну в свой театр. Мэтр знал, ценил актрису и был согласен. Но Миклашевская была очень гордой женщиной и не пошла к нему в театр. О трудностях своих поэту она не рассказывала. Все носила в себе. Только грусти прибавлялось в ее глазах.
Не раз вспоминала Августа Леонидовна многие литературные имена, в том числе и В. Маяковского, которого она всегда понимала и уважала. Однажды он специально приходил к ней, чтобы посмотреть на ту, которой Есенин пишет такие чудесные стихи. «В последний раз,— вспоминает Августа Леонидовна,— я видела его в 1926 году, перед отъездом на работу в Брянский театр. Я сидела за столом в ресторане Дома актера. Маяковский быстро подошел, почти лег на стол, протянул свои большие руки, не обращая внимания на сидящих со мной, поцеловал мне руку и сказал очень серьезно: «А все-таки вы очень интересная женщина»».
В воспоминаниях о Есенине Миклашевская рассказывала, что он очень хорошо знал литературу. С большой любовью говорил о Лескове, о его замечательном русском языке. Взволнованно говорил о засорении русского языка, о страшной небрежности к языку в газетах и журналах. Он был литературно очень образованным человеком. Несмотря на свою сумбурную жизнь, много стихов и даже прозу знал наизусть — Пушкина, Гоголя, Лескова.
Есенин знал и понимал не только русскую литературу, но и восторженно относился к искусству вообще. Рассказывает А. Л. Миклашевская: «В один из вечеров Есенин повез меня в мастерскую известного скульптора Сергея Коненкова. В мастерской его не оказалось. Была его жена. Мы вошли в студию. Есенин сразу затих и весь засиял. Про него часто говорили, что он грубый, крикливый, скандальный… Потом я заметила, что он всегда радовался, когда сталкивался с настоящим искусством. Иногда очень бурно, а иногда тихо, почти благоговейно. Но всегда радостно. И когда я потом прочитала его стихотворение «Пушкину», я вспомнила этот вечер…».
Многих друзей Есенина Миклашевская не любила, не понравился ей и самый маститый друг поэта — Николай Клюев. Ей не нравилось, как многие из них покровительственно поучали Сергея, хотя он был неизмеримо выше их как поэт. Мнимые друзья постоянно твердили ему, что его стихи, его лирика сейчас никому не нужны. Прекрасная поэма «Анна Снегина» вызвала у них ироническое замечание: «Еще нянюшку туда, и совсем — Пушкин». Они знали, что для Есенина нет боли сильней — думать, что его стихи не нужны. И «друзья» наперебой старались усилить эту боль. Трезвый Есенин им был не нужен. Когда он пил, вокруг все ели и пили на его деньги. Друзей, даже и не пьющих, устраивали легендарные скандалы Есенина. Эти скандалы привлекали любопытных в кафе.
После смерти поэта один из них, которого Есенин любил, с претензиями на правдивость хладнокровно обливал его грязью в своем «Романе без вранья». Августа Леонидовна писала: «Читая это произведение Мариенгофа, я подумала, что каждый случай в жизни, каждую мысль, каждый поступок можно преподнести в искаженном виде. И вспомнилось мне, как в день своего рождения, вымытый, приведенный в порядок после бессонной ночи, вышел к нам Есенин в крылатке, в широком цилиндре, какой носил Пушкин. Вышел и сконфузился. Взял меня под руку, чтобы идти, и тихо спросил: «Это очень смешно? Но мне так хотелось хоть чем-нибудь быть похожим на него…» И было в нем столько милого, детского, столько любви к Пушкину, и, конечно, ничего кичливого, заносчивого, о чем писал Мариенгоф, в этом не было».
Настоящих друзей у него было очень мало. Самым верным из них долгое время оставалась Галина Бениславская, которая самоотверженно и постоянно боролась за него, оберегая от разных неприятностей и мнимых друзей. Августа Леонидовна очень тепло отзывалась о Галине. «Она была красивая, умная. Когда читаешь у Есенина:
«Шаганэ, ты моя Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она очень похожа,
Может, думает обо мне,
Шаганэ, ты моя Шаганэ… «
— вспоминается Галя… Темные две косы. Смотрит внимательными глазами, немного исподлобья. Почти всегда сдержанная, закрытая улыбка. Сколько у нее было любви, силы, умения казаться спокойной. Она находила в себе силу устранить себя, если это нужно Есенину. И сейчас же появляться, если с Есениным стряслась какая-нибудь беда. Когда он пропадал, она умела находить его. Каждый раз, встречаясь с Галей, я восхищалась ее внутренней силой, душевной красотой. Поражала ее огромная любовь к Есенину, которая могла так много вынести, если это было нужно ему. Как только появлялось его новое стихотворение, она приходила ко мне и спрашивала: «Читали?» Когда было напечатано «Письмо к женщине», она опять спросила: «Читали? Как хорошо!» И только когда Есенин женился на Толстой, Галя обиделась, устранилась совсем и куда-то уехала».
 И еще вспоминая Есенина, Миклашевская рассказывала: «Был болен мой сын. Я сидела возле его кроватки и читала ему книгу. Неожиданно вошел Есенин. Когда увидел меня возле сына, прошел тихонько и зашептал: «Я не буду мешать». Сел в кресло и долго смотрел на нас (я поставила градусник сыну). Потом встал, подошел к нам. «Вот все, что мне нужно, — сказал он и пошел. В двери остановился: «Я ложусь в больницу, приходите ко мне». Я ни разу не пришла Я многого не знала и не знала о разладе с Толстой…».
И еще вспоминая Есенина, Миклашевская рассказывала: «Был болен мой сын. Я сидела возле его кроватки и читала ему книгу. Неожиданно вошел Есенин. Когда увидел меня возле сына, прошел тихонько и зашептал: «Я не буду мешать». Сел в кресло и долго смотрел на нас (я поставила градусник сыну). Потом встал, подошел к нам. «Вот все, что мне нужно, — сказал он и пошел. В двери остановился: «Я ложусь в больницу, приходите ко мне». Я ни разу не пришла Я многого не знала и не знала о разладе с Толстой…».
Августа Миклашевская испытывала к Есенину двойственные чувства: порой ей хотелось «пойти за ним все равно куда», но она «бессмысленно ломала в себе это» и в итоге подчинила сердце разуму… Она видела, как трудно Есенину, как он одинок, но не в силах была дать ему большее. «Я понимала, что мы виноваты перед ним, и я, и многие ценившие и любившие его. Никто из нас не помог ему по-настоящему. Мы часто оставляли его одного».
В своих воспоминаниях А. Миклашевская упоминает встречу и с Айседорой Дункан. «В вечер нового 1924 г. я впервые увидела Дункан близко. Это была крупная женщина, хорошо сохранившаяся. Своим неестественным, театральным видом она поразила меня. На ней был прозрачный хитон, бледно-зеленый, с золотыми кружевами, опоясанный золотым шнуром, с золотыми кистями и на ногах золотые сандалии и кружевные чулки. На голове — зеленая чалма с разноцветными камнями. На плечах не то плащ, не то ротонда бархатная, зеленая, опушенная горностаем. Не женщина, а какой-то очень театральный король. Мы встали, здороваясь с ней. Она смотрела на меня и говорила: «Ти отнял у меня мой муш!» У нее был очень мягкий акцент. Села она возле меня и все время сбоку посматривала: «Красиф? Нет, не ошень красиф. Нос красиф? У меня тоже нос красиф. Приходить ко мне на чай, а я вам в чашку яд, яд положу, — мило улыбалась она мне. — Есенин в больниц, вы должны носить ему фрукты, цветы!» И вдруг неожиданно сорвала с головы чалму: «Произвел впечатлень на Миклашевскую, теперь можно бросить». И чалма и плащ полетели в угол. После этого она стала проще, оживленнее: «Вся Европа знайт, что Есенин мой муш, и первый раз запел про любоф вам? Нет, это мне! Есть плехой стихотворень «Ты простая, как фсе»,— это вам!» И опять: «Нет, не очень красиф!» Болтала она много, пересыпала французские фразы русскими словами. То, как Есенин за границей убегал из отеля, то, как во время ее концерта, танцуя (напевала Шопена), она прислушивалась к его выкрикам. То, как белогвардейские офицеры-официанты в ресторане пытались упрекать за то, что он, русский поэт, остался с большевиками. Есенин резко одернул их: «Вы здесь официанты, потрудитесь подавать молча». А потом где-то на улице, ночью, они напали на него, — добавила Дункан. То пела «Интернационал», то «Боже, царя храни», неизвестно кого дразня. То тянулась к Соколову. Уже давно было пора уходить, но Дункан не хотела: «Чай? Что такое чай? Я утром люблю шампанское!» Стало светать, потушили электричество. Серый тусклый свет все изменил. Айседора сидела осунувшаяся, постаревшая и очень жалкая. «Я не хочу уходить, мне некуда уходить. У меня никого нет. Я один…»»
Айседора была глубоко несчастной женщиной, несмотря на легкость и раскованность ее поведения, постоянное внимание к ней мужчин. Она всей душой, отчаянно, как последний раз в жизни, любила Есенина, может быть, в большей степени в душе по-матерински, — он так сильно походил на ее сына, погибшего вместе с дочкой в нелепой автомобильной аварии. У неё были очень талантливые дети, которых она безмерно любила.
В воспоминаниях современников Есенина есть упоминание, что Миклашевская была помолвлена с Есениным. На самом деле эта помолвка была шуточной на одной из вечеринок, где Августу нарядили в бутафорскую фату. Журналист Литовский вспоминал так: «Очень скромно одетый, какой-то умиротворенный, непривычно спокойный Есенин и Миклашевская под тонкой синеватой вуалью — зрелище блоковское. Есенин сидел тихо, молча, следя глазами за каждым движением Миклашевской».
Понимая, что его любимая муза — Августа никогда не будет желанной спутницей жизни, Есенин постепенно прощался с их «нелепой» дружбой. Слишком многое их разделяло. Что-то осеннее, красивое и грустное и какое-то ускользающее было в их отношениях, в их встречах, которые становились все реже и реже. Август их любви прошел. Но у него осталось благодарное чувство к женщине, с которой он расстался. Однажды, спустя много времени после того, как они долго не встречались, Есенин встретил Августу случайно на улице возле Тверского бульвара. «Он соскочил с извозчика, подбежал ко мне: «Прожил с вами всю нашу жизнь. Написал последнее стихотворение»…». Эта встреча долго ей вспоминалась — так она была необычна, пронзительно грустна. Так удивительно нежен был он, о громких скандалах которого вновь говорила Москва…
«…Не вчера ли я молодость пропил?
Разлюбил ли тебя не вчера.
Облик ласковый! Облик милый!
Лишь одну не забуду тебя.
Пусть я буду любить другую,
Но и с нею, с любимой, с другой.
Расскажу про тебя, дорогую,
Что когда-то я звал дорогой…»
Вспоминала Августа Леонидовна и их последнюю встречу. «Зимой 1925 г. перед отъездом в Ленинград он неожиданно пришел ко мне на Малую Никитскую и повез меня куда-то… За кем-то заезжали и ехали дальше, куда-то на окраину Москвы. Помню, сидели в комнате с низким потолком, с небольшими окнами. Как сейчас вижу стол посреди комнаты, самовар. Мы сидим вокруг стола. На подоконнике сидела какая-то женщина, кажется, ее звали Анна. Есенин стоял у стола и читал свою последнюю поэму «Черный человек». Он всегда очень хорошо читал свои стихи, но в этот раз было даже страшно. Он читал так, будто у нас никого не было, и как будто Черный человек находился здесь».
Августа оставалась близкой и бесконечно далекой музой поэта. «Это было романтизированное чувство. Близости не было. Сейчас мне это незачем было бы скрывать. Я могла бы этим только гордиться. Но я жила не в том темпе, в котором жил Есенин. Я его очень жалела». Геннадий Морозов, вспоминая о встрече с актрисой уже в ее глубокой старости, рассказывает: «Когда разговор наш коснулся сугубо интимных отношений поэта и актрисы, то я в конце нашей беседы, не удержавшись, спросил Миклашевскую: целовалась ли она с Есениным. Помолчала Августа Леонидовна, загрустила и, вспоминая давнее, отдаленное от нас более чем пятью десятками лет, просияв, ответила: «Нет, не целовалась, но любила гладить его кудрявые волосы, мягкие, шелковистые. Было мгновение, когда он лишь единственный раз коснулся губами моего лба. Вот и все».
Ей позвонили по телефону, сказали о смерти Есенина. «Всю ночь мне казалось, что он тихо сидит у меня в кресле, как в последний раз сидел» — написала она. Всего одну фразу. Вот так закончился роман двух удивительно красивых и талантливых людей.
И вот его не стало… «Когда я шла за закрытым гробом, казалось, только одно желание у меня было — увидеть его волосы, дотронуться до них. И когда потом я увидела вместо его красивых, пышных волос прямые, гладко причесанные, потемневшие от глицерина волосы, смазанные, когда снимали маску, мне стало безгранично жалко его. «Милый, милый, Сережа». И вдруг увидела быстро посмотревшего на меня Мейерхольда. Наверно, сказала вслух. Есенин был похож на обиженного, измученного ребенка.
Все время, пока гроб стоял в Доме печати на Никитском бульваре, шла гражданская панихида. Качалов читал стихи, Собинов пел. Райх обнимала своих детей и кричала: «Наше солнце ушло…» Мейерхольд бережно обнимал ее и детей и тихо говорил: «Ты обещала, ты обещала…» Мать Есенина стояла спокойно, с каким-то удивлением оглядывала всех. Мы с трудом нашли момент, когда не было чужих, закрыли дверь, чтобы мать могла проститься, как ей захочется».
После смерти Есенина началась спекуляция на его имени. Очень уговаривали и Миклашевскую выступать на этих концертах. Она отказывалась, но устроители все-таки как-то поместили на афише ее фамилию. Августа Леонидовна рассказывала: «В день концерта Галя привела ко мне младшую сестру Есенина — Шуру, почти девочку. Ей тогда, наверно, не было и 14 лет. Галя сказала, что Шура хочет пойти на концерт, чтобы послушать, как я буду читать стихи Сергея. «Я не хочу, чтобы Шура ходила на эти концерты. Вот я и привела ее к вам, чтобы вы почитали ей здесь». — «Галя, я не буду читать на концертах вообще, а тем более стихи, посвященные мне». Как просияла Галя, как вся засветилась: «Значит, вы его любили. Я все хожу и ищу, кто его по-настоящему любил»…» Августа выполнила свое обещание Бениславской и на концертах никогда не читала этих стихов поэта.
Миклашевской предстояла трудная, но долгая жизнь. Она пережила поэта более чем на полвека. Все не просто было и в артистической, и в личной судьбе Миклашевской. Вскоре после гибели Есенина Миклашевская покинула Москву, уехала в Брянск, в то время совсем захолустный городок, играла там в театре… Снова возвратилась в Москву, и снова поиски места, ожидание ролей. Шила себе платья из гардин, зимой ходила в летних туфлях, поэтому была все время простужена. Где она, ее синяя птица счастья? А потом пришли совсем тяжелые времена «красного террора». Есенин — под запретом, не выходят книги, не звучат его стихи, «есенинщину» хулят, а о том прекрасном, что он воспевал, — ни звука. Везде лозунги «Искусство принадлежит народу». А гонения на работников искусства чудовищные. Сколько их сгинуло в роковые и страшные тридцатые годы…
Театры Таирова и Мейерхольда подвергались особенно яростным нападкам пролетарских критиков. И вскоре их закрыли, без работы остались сотни актеров. И не было возможности устроиться в Москве. Снова Миклашевская ищет пристанища — житейского и творческого — в провинции. И судьба приводит ее в Рязань, на родину Есенина. Вот так в 1936 году Августа Миклашевская оказалась в Рязани, в театре на Соборной. Здесь она играла роли, которых не могла дождаться в Москве. Она играла Анну Каренину. И как играла! Все, что было пережито, прочувствовано, она переносила на сцену, дарила залу. Зрителя волновала и необыкновенная античная красота, и отзвуки есенинского сияния над этой необыкновенной женщиной. Ей представилась возможность попробовать себя и в ролях совсем другого плана. Город был тихим, провинциальным, даже патриархальным. В 1936 году он был совсем невелик и немноголюден. Была в нем всего лишь одна мощеная улица. Большая улица тоже одна. И здесь она блистала.
Когда проходила Миклашевская в печальной задумчивости по тихим рязанским улочкам, то вспоминала своего златоглавого друга: ведь здесь проходил и Есенин, может быть, стоял на этом самом месте. Почему он так сказал: «Не ставьте памятник в Рязани»? Да в то время никто и не собирался ставить. И невозможно было представить, что кому-то в голову придет такая шальная мысль. Она стояла у рязанского собора, закрытого, без крестов, молчаливого, без службы, без колокольного звона, — и слезы лились непрестанно… Она вспоминала его взгляд, его голос и то, как он, держа ее за руку, ласково глядя в глаза, читал ей стихи. Как удивительно, что судьба занесла ее именно в Рязань, что увидела она этот благословенный, истинно русский город, его тихую прелесть, очарование, давшее ее другу такой необыкновенный талант. Она вновь выходила на сцену театра на Соборной. Врач из Слободского Эмилия Пэма опубликовала свои детские воспоминания, как она видела Миклашевскую: «Мы тогда говорили не «клуб», а «театр», потому что труппа приехала настоящая, артисты были настоящие, афиши — настоящие! Театр во время спектаклей был забит до предела, люди шли душу успокоить, отвлечься от войны. Мне было 13 лет, и я хорошо помню Миклашевскую. Она была хороша, высокого роста, имела царственную осанку. Я смотрела ее в «Без вины виноватые», когда мои семейные дела были драматичны, и сюжет Островского ложился на мои душу и мысли. Миклашевская-Кручинина довела меня до потрясения. Было ли потом с тех детских слез у меня в театре сопереживание сильнее?! Она играла бесподобно…»
Она играла сезон и играла интересно, оставила память о себе. Красота, благородство, ее талант покоряли, не могли оставить равнодушными. Но, конечно, она скучала по Москве и мечтала вернуться туда. Атмосфера столичных театров, друзья, близкие — все было связано со столицей. Миклашевская вернулась в Москву, сохранив о Рязани добрые воспоминания. Будет ли еще возможность играть столько и такие яркие роли? Но из-за отсутствия постоянной работы в столице Августа Леонидовна 20 лет проработала в провинциальных театрах в Брянске, Рязани, Ижевске.
Только осенью 1943 года при содействии А. Мариенгофа Алексей Яковлевич Таиров вернул актрису в любимый Московский Камерный театр. Но вскоре там не стало Таирова. И театр стал как будто другой, совсем чужой и незнакомый. Он стоял на прежнем месте, на Тверском бульваре, в этом же здании, но назывался по-другому. Не было в нем Таирова, даже память о нем жестоко вытравляли. И Миклашевской приходилось тяжело. Больше горести, чем радости принесла ей театральная жизнь, хотя стала она много лет спустя Заслуженной артисткой РСФСР. Но тяжелее всего пытаться забыть то дорогое, что было: ведь имена Есенина, Таирова, многих, кого она близко знала, были под запретом. Страх не отпускал: могли в те годы арестовать только за близость к Есенину…
Мариенгоф в своих воспоминаниях ядовито упрекает Августу Миклашевскую за вступление в ВКП(б). Но кто знает, какие обстоятельства привели ее к такому решению. Ведь очень многие люди в ту пору искренне верили в партию и дело Ленина. Тем более что она была всего лишь не очень сильной женщиной, погруженной целиком в заботы о сыне.
Во время Великой Отечественной войны, после эвакуации в Киров в 1941 году Августа Миклашевская работала в трупе Ленинградского Большого драматического театра, расположившегося в Доме культуры меховой фабрики «Белка», где ютилась прямо в здании ДК в своей гримерке. Самой сильной ролью Августы Миклашевской в кировский период современники считали роль Анны Карениной в одноименной постановке.
 Существует версия, что к ней в Слободской в конце 1941 года приезжал в отпуск ее сын Игорь Львович, который стал дипломатом, послом, во время войны входил в разведывательно-диверсионную группу под руководством Павла Судоплатова, выполняя особое задание в Берлине. Должен был участвовать в операции по ликвидации Гитлера, но Сталин неожиданно отменил эту акцию. Потом он воевал в партизанском отряде на территории Франции.
Существует версия, что к ней в Слободской в конце 1941 года приезжал в отпуск ее сын Игорь Львович, который стал дипломатом, послом, во время войны входил в разведывательно-диверсионную группу под руководством Павла Судоплатова, выполняя особое задание в Берлине. Должен был участвовать в операции по ликвидации Гитлера, но Сталин неожиданно отменил эту акцию. Потом он воевал в партизанском отряде на территории Франции.
Когда ей было уже за 70 лет, она решила непременно побывать на родине Есенина еще раз, поклониться рязанским светлым березам, краю, что его взрастил. И в 1966 году Миклашевская приехала в Рязань, город, сыгравший такую удивительную роль в необычной ее судьбе.
Сыграла Августа Леонидовна и несколько ролей в кино. В 1917 году она снялась в фильме «Плоды просвещения» по произведению Л. Н. Толстого. Известны также фильмы с её участием: «Наследники (1960 г.), «Кубинская новелла» (1962 г.)


Заслуженная артистка РСФСР А. Л. Миклашевская дожила до 86 лет. Не стало её 30 июня 1977 года. Её завещание: «тело сжечь, а пепел развеять по лесам и лугам» — не было выполнено. Валентина Кузнецова вспоминает: «По завещанию тело её кремировали. Но колумбарий в Москве открывался только через полгода, и только тогда можно было установить мемориальную доску, захоронив в стене урну с прахом.
 Сын Августы Леонидовны Игорь Львович решил никого не извещать о предстоявшей церемонии, только самых близких людей. Но вышло иначе. Пока мы дошли от входа на Ваганьково до кладбищенской церкви, было уже человек сто пятьдесят, а у места захоронения огромная толпа. Семь есенинских стихов, посвященных Августе Миклашевской, мы распределили между собой, кто какое стихотворение прочтет. Я только сделала шаг вперед, но меня опередила старушка, закутанная в платок, и начала читать дребезжащим голосом: «Ты такая ж простая, как все…». Вслед за ней из толпы вышел бедно одетый старик и таким же надтреснутым голосом прочитал «Заметался пожар голубой…» У всех слезы стояли на глазах. Ученики Августы Миклашевской, столичные актеры, декламировали есенинское «Собаке Качалова»: «Но та, что всех безмолвней и грустней, сюда случайно вдруг не заходила?». При жизни Августа Леонидовна говорила: «В этом стихотворении Есенин не назвал меня, поэтому каждому вольно думать по-своему». Но она считала, что эти строки тоже адресованы ей». Возможно, это было действительно так. По характеру эти слова «та, что всех безмолвней и грустней» больше подходят к Миклашевской, чем к З. Райх, которая отличалась очень вспыльчивым и буйным характером.
Сын Августы Леонидовны Игорь Львович решил никого не извещать о предстоявшей церемонии, только самых близких людей. Но вышло иначе. Пока мы дошли от входа на Ваганьково до кладбищенской церкви, было уже человек сто пятьдесят, а у места захоронения огромная толпа. Семь есенинских стихов, посвященных Августе Миклашевской, мы распределили между собой, кто какое стихотворение прочтет. Я только сделала шаг вперед, но меня опередила старушка, закутанная в платок, и начала читать дребезжащим голосом: «Ты такая ж простая, как все…». Вслед за ней из толпы вышел бедно одетый старик и таким же надтреснутым голосом прочитал «Заметался пожар голубой…» У всех слезы стояли на глазах. Ученики Августы Миклашевской, столичные актеры, декламировали есенинское «Собаке Качалова»: «Но та, что всех безмолвней и грустней, сюда случайно вдруг не заходила?». При жизни Августа Леонидовна говорила: «В этом стихотворении Есенин не назвал меня, поэтому каждому вольно думать по-своему». Но она считала, что эти строки тоже адресованы ей». Возможно, это было действительно так. По характеру эти слова «та, что всех безмолвней и грустней» больше подходят к Миклашевской, чем к З. Райх, которая отличалась очень вспыльчивым и буйным характером.
Актриса и поэт вновь оказались рядом — на Ваганьковском кладбище. В день прощания с этой удивительной женщиной и на могиле поэта долго не умолкали стихи.
Добавить комментарий
Комментарии, не имеющие прямого отношения к теме статьи, содержащие оскорбительные слова, ненормативную лексику или малейший намек на разжигание социальной, религиозной или национальной розни, а также просто бессмысленные, ПУБЛИКОВАТЬСЯ НЕ БУДУТ.