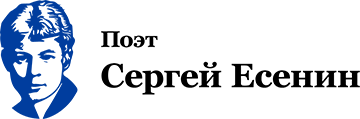Тема любви в стихах Александра Блока и Сергея Есенина
24.01.2018Сергей есенин дата смерти
24.01.2018Сергей есенин санкт петербург
ПЕТЕРБУРГ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА
Песни, песни, о чем вы кричите?
Иль вам нечего больше дать?
Голубого покоя нити
Я учусь в мои кудри вплетать.
Я хочу быть тихим и строгим.
Я молчанью у звезд учусь.
Хорошо ивняком при дороге
Сторожить задремавшую Русь…
30. «КРАСА»… С КАНДИБОБЕРОМ (Адрес первый: наб. Фонтанки, 149, кв. 9)
Есенин – и дерзкая травинка на городском камне, и камень, так и не сумевший затеряться в траве. Читая как-то письма Клюева к Есенину, в которых он настойчиво зовет того приехать в Петроград, встретил фразу поразительную – почти пророческую! «Я боюсь за тебя, – пишет Клюев в августе 1915 года, – ты, как куст лесной шипицы, которая чем больше шумит, тем больше осыпается. Быть в траве зеленым, а на камне серым – вот наша с тобой программа, чтобы не погибнуть…» Увы, серым на серых городских камнях Есенин стать так и не сможет – слишком был самобытен, ярок и именно шумлив. Они оба не выполнят намеченной «программы» – быть незаметными, и оба погибнут – умрут страшной смертью. А встретятся впервые в Петрограде – на Фонтанке…
Когда-то этот район звали Коломна. И тут, на Фонтанке, в доме №149, в четвертом этаже, жил у сестры Клавдии Ращепериной Николай Клюев. У него и остановился приехавший в Петроград Есенин. Ему двадцать, Клюеву – тридцать один год. «Легко представить ладного, рдеющего румянцем паренька, почтительно следующего за коренастым мужичком, пышноусым, рано облысевшим, – пишет о друзьях один из исследователей. – Мужичок сноровист и спор. Все у него схвачено, везде знает углы потаенные, светелки заветные – от дымных артистических кабаков до жарких раскольничьих молелен…» Немудрено, что новый друг Сергея, В.Чернявский, даже возмущался: Клюев «совсем подчинил… Сергуньку… поясок ему завязывает, волосы гладит, следит глазами». На свидания и то не пускал – ляжет поперек двери и скулит…[128]
Поясок Есенина поминают многие. Не в «казинетовый пиджачок» был одет Есенин, как пишет одна современница поэта, и не в «серый костюм», как утверждал ученик Репина, художник Антон Комашка, а в «театральную крестьянскую косоворотку с частым пастушьим гребнем на кушаке, в бархатные шаровары и тонкие шевровые сапожки». Таким запомнит его художник Юрий Анненков, знакомство которого с поэтом перерастет вскоре в «забулдыжное месиво дружбы», и добавит: он был похож на «кустарную игрушку». Пишут, что носил даже кафтан, который был сшит по эскизу великого Васнецова.
Маяковский, с которым, напротив, дружеских отношений так и не возникнет, скажет о Есенине неприязненно: «В первый раз его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиками. Он мне показался опереточным, бутафорским». И предложит пари, что все эти «лапти да петушки-гребешки» Есенин скоро бросит. А Ахматова, которую Есенин посетит, приехав в Петроград, заметит покровительственно и почти равнодушно: «Застенчивый, беленький, кудрявый, голубоглазый и донельзя наивный».
Столицу наивный, во всяком случае, покорял весьма хитро. «Презирая деревню, решил на ней сделать капитал». А кроме того, наивный паренек этот к тому времени уже пытался покончить с собой, был женат гражданским браком на корректорше Анне Изрядновой, от которой у него остался в Москве почти годовалый сын, и, наконец (что не часто вспоминают ныне), числился в Москве среди «сознательных рабочих» Замоскворечья, которые поддерживали связь с фракцией большевиков: ходил «под слежкой», обыскивался охранкой, а в «Журнале наружного наблюдения» в полиции фигурировал под «говорящей» полицейской кличкой Набор. Почти революционер? Вроде бы да. Но через пару лет, забыв про левые убеждения, будет вдохновенно читать и посвящать стихи аж самой императрице и великим княжнам. Станет вроде бы монархистом, вызвав, кстати, нешуточный скандал…
Поселится у Клюева. Но до него к первому пошел еще с вокзала к Блоку – на Офицерскую. По дневнику последнего – 9 марта.
«Днем у меня рязанский парень со стихами, – пишет Блок. – Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные». «Был он для меня словно икона, – вспоминал потом Есенин о визите к Блоку. – Ну, сошел я на Николаевском вокзале с сундучком за спиной, стою на площади и не знаю, куда идти дальше, – город незнакомый, – рассказывал он поэту Всеволоду Рождественскому. – А тут еще такая толпа, извозчики, трамваи – растерялся совсем… Остановил я прохожего, спрашиваю: “Где здесь живет Александр Блок?” – “Не знаю, – отвечает, – а кто он такой будет?” Ну, я не стал ему объяснять, пошел дальше… Прохожу мост с конями и вижу – книжная лавка (Невский, 66. – В.Н.). Вот, думаю, здесь уж наверно знают. И что ты думаешь: действительно раздобылся там верным адресом. Блок у них часто книги отбирал, и ему их с мальчиком на дом посылали… Тронулся я в путь, а идти далеко. С утра ничего не ел, ноша все плечи оттянула… Поднимаюсь по лестнице, а сердце стучит, и даже вспотел весь. Вот и дверь его квартиры. Стою и рук к звонку не могу поднять. Легко ли подумать, – а вдруг сам… двери откроет. Нет, думаю, так негоже. Сошел вниз, походил около дома и решил наконец – будь что будет. Но на этот раз прошел со двора. По черному входу… Поднимаюсь, а у них дверь открыта, и чад из кухни так и валит. Встречает кухарка. “Тебе чего, паренек?” Когда она пошла за Блоком, то дверь прикрыла на крюк: “Ты человек неизвестный”»…[129]
Блок, выйдя из комнат, тоже примет его сначала за крестьянина из Боблова, подмосковной дачи его жены, а потом, полистав тетрадочку со стихами, напоит чаем (Есенин от волнения съест всю булку) и предложит даже яичницу, от которой гость также не откажется. Пимен Карпов, опять-таки со слов Есенина, дополнит картину. Он пишет, что когда Блок хотел дать Есенину адрес поэта Городецкого и уже начал говорить, что тот написал хорошую книжку стихов «Ярь», Есенин якобы оборвал Блока: «Да ну его! Погодите, Ляксандра Ляксандрыч, дайте на вас поглядеть… У нас на Рязани вас бы на руках понесли!» Блок, по словам Карпова, ответит ему: «У вас на Рязани читают “Песенники” да “Сонники” Сытина. А таких, как я, побивают камнями. И пусть…»
Словом, с Блока да с Городецкого, напишет потом Есенин, «и началась моя литературная дорога». Он, правда, потом сто раз опровергнет эти свои слова. «Пусть, думаю, – рассказывал Мариенгофу, – каждый считает: я его в русскую литературу ввел. Им приятно, а мне наплевать. Городецкий ввел? – Ввел. Клюев ввел? – Ввел. Сологуб с Чеботаревской ввели? – Ввели. Одним словом: и Мережковский с Гиппиусихой, и Блок, и Рюрик Ивнев… к нему я, правда, первому из поэтов подошел… Сам же я скромного, можно сказать, скромнее. От каждой похвалы краснею, как девушка, и в глаза никому от робости не гляжу. Потеха. Говорил им, что еду бочки в Ригу катать. Жрать, мол, нечего. А в Петербург на денек, на два, пока партия моя грузчиков подберется. А какие там бочки – за мировой славой в Санкт-Петербург приехал, за бронзовым монументом…»
Позже, в 1920-х, вообще расхвастается. Скажет, что когда-то считал Блока первым поэтом, а теперь – «теперь многие – Луначарский там, пишут, что я первый. Слыхали, наверно? Не Блок, а я. Как вы находите? Врут, пожалуй? Брехня?»[130] Эрлиху, молодому тогда поэту, скажет даже возмущенно: «Они говорят – я от Блока иду, от Клюева. Дурачье! У меня ирония есть. Знаешь, кто мой учитель? Если по совести. Гейне мой учитель. »
Короче, это был тот случай, когда говорят: самоуничижение паче гордости. Его принимали благосклонно: стихи были хорошие, частушки звонкие, которые пел не без похабщины, да и в рот глядел каждому встречному поэту. А в душе всех этих «встречных» едва ли не презирал. Раскусил его, пожалуй, один Сологуб. Уж он-то этих мальчиков с амбициями навидался в своих училищах да гимназиях.
«Потеет от почтительности, сидит на кончике стула, – издевательски опишет Есенина Сологуб. – Подлизывается напропалую: “Ах, Федор Кузьмич. Ох, Федор Кузьмич. ” Льстит, а про себя думает: ублажу старого хрена – пристроит меня в печать. Ну, меня не проведешь, – я этого рязанского теленка сразу за ушко да на солнышко. Заставил его признаться и что стихов он моих не читал, и что успел до меня уже к Блоку и Мережковским подлизаться. Словом, прощупал хорошенько его бархатную шкурку и обнаружил настоящую суть: адское самомнение и желание прославиться во что бы то ни стало…» И хотя Есенин потом кричал, что ненавидит «всех этих Сологубов с Гиппиусихами», именно Сологуб, как пишет Георгий Иванов, рекомендовал стихи Есенина в журнал: «Искра есть. Рекомендую. И аванс советую дать… Мальчишка стоящий, с волей, страстью, горячей кровью. Не чета нашим тютькам из “Аполлона”…»
Но особенно подружится Есенин в Питере с тезкой своим – с Сергеем Городецким. Пишут, что в первый свой приезд он остановился сначала на один день у литератора М.Мурашева (Театральнаяпл., 2), а затем именно у Городецкого (М. Посадская, 14). Кстати, к Городецкому за четыре года до его встречи с Есениным пришел начинающий еще тогда Клюев. Пришел, как Есенин к Блоку, очень похоже, едва ли не по одному «сценарию». Не только через черный ход явился, но, как и Есенин, с порога стал врать, что он вообще-то маляр и прочее… Для виду спросил у кухарки: «Не надо ли чего покрасить?» А сам давай стихи ей читать. Кухарка кинулась к барину: так-де и так. Явился Городецкий. Зовет в комнаты. А Клюев, представьте, конфузится: «Где уж нам в горницу: и креслица-то барину перепачкаю, и пол вощеный наслежу». Так, стоя перед Городецким, и читал свои стихи… Вот ведь как входили в литературу настоящие поэты.
Г.Иванов опишет потом квартиру Городецкого: «В центре комнаты – большой круглый стол. На столе розы в хрустальном цилиндре, дынное варенье, дымящиеся гарднеровские чашки. В окружении литераторских дам – жена Городецкого, “Нимфа”, сияя несколько тяжеловесной красотой, разливает пухлыми пальчиками чай…» Городецкий, ненавистник всякой «классической мертвечины», называл жену “Нимфой”. За ней прозвище закрепилось, особенно после того, как одна из книг Городецкого вышла с посвящением: «Тебе – Нимфа…» Кстати, эта Нимфа (на самом деле Анна Алексеевна) будет заставлять Есенина ставить самовар, бегать за хлебом, даже за нитками в мелочную лавку, если они вдруг требовались. Зато именно Городецкий, к кому Есенин принес свои стихи, завязав их в деревенский платок, напишет одному редактору фразу просто историческую: «Приласкайте талант. В кармане у него рубль, а в душе богатство…»
Наконец, именно Городецкий устроит крестьянским поэтам вечер в Тенишевском училище, который странно назовет – «Краса». Тут-то, под удары тимпана, и выйдет на эстраду Сергей Есенин. Кажется, впервые в жизни! Косоворотка розовая, золотой кушак, волосы подвиты, щеки нарумянены, вспоминал очевидец. «В руках – о, господи! – пук васильков – бумажных. Выходит, подбоченясь, улыбка ухарская и растерянная. Выйдя, молчит, беспокойно озираясь. “Валяй, Сережа, – подбадривает Городецкий. – Валяй, чего стесняться”…» И Есенин – не стесняется. Лады, Лели, гусли-самогуды, струны-самозвоны. Иногда выскочит и неприличное, «похабное» словцо. Но раньше он, по «неопытности», считал, что вставлять их и в разговор нехорошо, не то что в стихи, теперь же еще оглядывал публику: «Что? Каково?» Частушки, которые он (по его словам) «запузыривал с кандибобером» даже в изящных салонах, были и вовсе матерными. Словом, то была стихия, которую и искал в молодых поэтах Городецкий. И пока Гиппиус или Сологуб советовали Есенину учиться, Городецкий сразу объявил вчерашним крестьянам: они, оказывается, «гении», и не просто – а народные гении, что, конечно, «много выше». А все «эти штуки с упорной работой – для интеллигентов. Дело же народного гения – «выявлять стихию»…
Увы, стихию, в широком смысле этого слова, уже и выявлять было не надо – она сама вовсю вокруг бушевала. Война, зреющая революция. И мог ли Есенин – травинка – разобраться в камнепаде имен и событий. Почти революционер, он встречается теперь с самой императрицей. Тут, конечно, сплошные «фигуры умолчания»: слухи, полушепот, «страшные» тайны. Иначе ведь – скандал! Наш Есенин – «душка», «прелестный мальчик» – зашелестело по литературным салонам и в Царскосельском дворце! «Отогрели змею! Новый Распутин! Второй Протопопов! Ренегат. » И новость, увы, была правдой. Встречался с императрицей в Царском Селе – там находился полевой военно-санитарный поезд №143, куда поэта, спасая от фронта, устроил по протекции то ли Клюев, то ли Городецкий[131]. Там, читая стихи раненым, он, по одной версии, дважды видел императрицу в госпитале, по другой (как пишет Вс. Рождественский) – читал стихи в ее покоях, ей одной. Наконец, по третьей версии – читал стихи вдовствующей императрице Марии Федоровне. «Она меня встретила ласково, – рассказывал Повицкому. – Сказала, что я настоящий русский поэт, и прибавила: “Я возлагаю на вас большие надежды… В такое время… верноподданнические стихи были бы очень полезны”…» – «Что же ты ответил?» – спросил Повицкий. «Я ей сказал: “Матушка, да я пишу только про коров, еще про овец и лошадей. О людях я не умею писать”…»
По последней версии, в 1916-м и затем в 1917 годах Есенин дважды встречался с членами царской фамилии. Его даже наградили золотыми часами в память о его выступлении на одной из этих встреч. А в готовой уже книге «Голубень» он, в те же примерно дни, посвятит Александре Федоровне цикл стихов. Посвящение, правда, успеет вовремя снять, аккурат в революцию, а взамен сочинит путаную историю, «будто… отказался посвящать сборник царице, за что его чуть не упекли в дисциплинарный батальон».
Через три года на допросе в ЧК он признается: был-таки в дисбате, но – за дезертирство[132]. Впрочем, вскоре он вновь станет почти революционером. Влюбится в красивую эсерку.
Она будет самой большой его любовью.
И – ненавистью! Так бывает.
Но об этом – у следующего дома Есенина.
31. ЛИТЕЙНЫЙ… И ЖУРАВЛИ (Адрес второй: Литейный пр., 33, кв. 2)
Считается, что у Есенина было огромное количество женщин. Думаю, это миф. Много было стихов о любви, а это не одно и то же. Писатель Эмиль Кроткий однажды услышал от поэта: «Женщин триста у меня, поди, было?» Собеседник ему, разумеется, не поверил. «Ну, тридцать», – резко сбавил тогда Есенин. «И тридцати не было», – сказал Кроткий. «Ну, – помолчал Есенин. – Ну, десять». – «На этом, – пишет Эмиль Кроткий, – и помирились. – “Десять, пожалуй, было”, – подвел черту и поэт…»
Травинка на истоптанных городских камнях, Есенин искал в женщинах чистоты и, если можно так сказать, незатоптанности. В восемнадцать лет написал в деревню своей девушке, Мане Бальзамовой: «Жизнь – глупая штука. Хаос разврата. Все живут ради чувственных наслаждений. Но есть среди них в светлом облике непорочные, чистые, как бледные огни догорающего заката…» Именно такую – красивую, смешливую, хотя и любящую печального Гамсуна девушку с двумя косами, уложенными вокруг головы, и привел Есенин женой в дом №33 на Литейном проспекте. Любил ее до беспамятства. Но она оказалась не девушкой, хотя и сказала, что он у нее – первый. Этого «по-мужицки, по темной крови» своей, заметит его друг, простить ей не смог, хотя она родит ему двоих детей. И, страшно любя ее, еще более страшно станет ее ненавидеть…
Кстати, в этот дом на Литейном, в квартиру на втором этаже прямо над аркой, окнами во двор[133], где сохранилась до сих пор даже печь в углу, однажды, еще в начале 1918 года, чуть не нагрянет самый большой морской начальник Советской России – «главвоенмор» и начинающий писатель Федор Раскольников. Его позовет сюда друг Есенина, личный «адъютант» поэта Рюрик Ивнев, про которого Есенин отзывался, кстати, довольно едко: «Наш Рюрик пишет романы очень легко. Легко, как мочится». Так вот, Рюрик – он жил рядом с Есениным (Симеоновская, 11) – встретит Раскольникова на митинге в Доме армии и флота, нынешнем Доме офицеров. «Ивнев подошел ко мне, – вспоминал Раскольников, – и с томной манерностью, играя лорнетом, предложил поехать к Сергею Есенину. “Он живет недалеко отсюда. К тому же под вами ходит машина»…» Хорошо, что визит «главвоенмора» не состоялся. Потому что женой Раскольникова была уже Лариса Рейснер, в которую Есенин три года назад был влюблен («Я о нее… поцарапался») и которую неловко, по-деревенски, звал замуж. «Есениноведы» об этом как-то не пишут. Есенин, кстати, называл ее «ланью», а себя – «златогривым жеребенком». Но «жеребенок» робел перед красавицей и утонченной поэтессой. Встречались, возможно, у Каннегисеров (Саперный пер., 10), у Софьи Чацкиной (Кирочная, 24), издательницы журнала «Северные записки», у певицы Надежды Плевицкой (ул. Чайковского, 83), с которой Есенин выступал на каких-то вечерах. Однажды он тихо, но поэтично признался Ларисе, что глаза ее, как молния, раскололи его душу. Лариса расхохоталась поэту в лицо: «Есенин, зачем вы врете? Эх, вы, Лель!» – «Вот те крест, не вру!» – задохнулся он. «А я в крест-то как раз и не верю», – ответила будущая героиня Гражданской войны. Потом, после того вечера в Тенишевском, который Городецкий, помните, странно назвал «Краса» и на котором Лариса бешено аплодировала не вполне приличным частушкам Есенина, он догонит ее на улице и, окрыленный успехом, бухнет: «Я вас люблю, лапочка. Мы поженимся…» Бухнет – и тут же поймет свою ошибку. Ибо зеленоглазая лань тогда-то и огреет его – по-городскому. Пожмет плечиком: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань…»
Вообще-то Есенин, думается, никогда не мог найти верного тона с женщинами. То был фамильярен, то непомерно почтителен, то оскорбительно развязен, а то непростительно груб. Примеров тому – тьма. Не отсюда ли столь разная «трактовка» любви в его стихах? Ведь именно здесь, в доме на Литейном Есенин, как считается, и начнет писать свое знаменитое «Письмо к женщине»: «Любимая! Меня вы не любили. // Не знали вы, что в сонмище людском // Я был, как лошадь, загнанная в мыле…» И эта вот загнанность его, вчерашнего «жеребенка», с годами будет только расти. А ведь стихотворение это лишь пересказывало одну из ссор его с той, кого он привел сюда женой, – с Зинаидой Райх. Одно в нем преувеличил: что она его не любила. Любила, да так, что, помани ее Есенин пальцем, как писал позже Мариенгоф, она бы не просто убежала от нового мужа, Мейерхольда, а кинулась бы «без резинового плаща и без зонтика в дождь и в град»… Любила, и любила, я думаю, до конца жизни…
А знаете, где Есенин не только объяснился ей в любви «громким шепотом», как пишет его дочь, но и позвал замуж? Посреди Белого моря – на пароходе. Красиво! Она, которая этого не ждала, в первые минуты растерялась, но, как девушка из рабочей семьи, гордящаяся своей самостоятельностью, ответила не без достоинства: «Дайте мне подумать». Это, надо сказать, слегка обидело его, но через три дня они вернулись в Петроград – уже обвенчанные. А началось у них все с разъезжающихся под Есениным стульев в одном великокняжеском дворце…
Этот дворец цел и поныне (Галерная, 27). В нем весной семнадцатого года располагалась редакция эсеровской газеты «Дело народа». Сюда, в роскошный еще недавно дворец, Есенин, вновь ставший почти революционером[134], заходил с приятелем – поэтом Алексеем Ганиным. Здесь, говорят, познакомился с Германом Лопатиным, знаменитым переводчиком «Капитала» Маркса, которому пел частушки. И здесь, в редакции, впервые увидел Зинаиду Райх, красивую девушку с двумя косами вокруг головы, мягким движением кутавшуюся в теплый платок, которая была не просто секретарем-машинисткой – работала по убеждению, являлась членом партии эсеров. Вот она, с глазами «как вишни», с «абсолютной женственностью», и ее подруга Мина Свирская и посмеивались, приходя утром на работу, видя, как под двумя поэтами, Есениным и Ганиным, ночевавшими в редакции ввиду бездомности, разъезжались золоченые стулья особняка. Так и познакомились.
С тех пор, что ни вечер, они вчетвером отправлялись гулять по городу. Причем Есенин всегда шел с Миной впереди[135], а Райх с Ганиным – сзади. А однажды, уже летом 1917 года, Есенин, влетев в редакцию, крикнул Мине с порога: «Едемте на Соловки. Мы с Алешей едем».
Мина сразу отказалась (перед выборами в Учредительное собрание было много работы), а Зинаида вскочила, захлопала в ладоши и побежала к секретарю газеты отпрашиваться. Тут же выяснилось, правда, что у поэтов была лишь идея – деньги на поездку из «заветной суммы» дала Зинаида. Зато, вернувшись с Севера, подписывая какую-то бумагу, украдкой показала подруге свою подпись: «Райх-Есенина». «Нас с Сергеем на Соловках попик обвенчал», – призналась. Обвенчал их попик, согласно документам, не на Соловках – в Кирико-Улитовской церкви Вологодского уезда.
«Выхожу замуж, – телеграфировала Зина отцу в Орел. – Вышли сто». На эти деньги невесту, как смогли, нарядили, купили кольца. На цветы, пишет дочь Есенина и Райх, денег не хватило – Есенин нарвал букет по пути в церковь. Райх было двадцать три года, Есенину – двадцать два без одного месяца. Пишут, что через сорок дней Райх якобы поместила письмо в «Правде», что выходит из партии эсеров. А Ганин стал шафером на свадьбе. Где была свадьба, не знаю, но думаю, у Зинаиды, она снимала комнату на нынешней Советской улице (8-я Рождественская, 36). Смешно, но… когда втроем с Ганиным они приехали в Орел, родные Зинаиды решили, что муж ее именно Ганин. «Устроили небольшой пир. Ночь подошла, – рассказывал отец Зинаиды. – Молодым я комнату отвел. Гляжу, а Зинаида не к мужу, а к белобрысенькому подходит. С ним идет в отведенную комнату. Только тогда и сообразил, что муж-то – белобрысенький…»
Между прочим, и на Литейном, 33, они тоже поселятся втроем: в двух комнатках молодожены, а по соседству, отдельно – Ганин. Тут у Есенина и проявятся черты «избяного хозяина», главы очага, пишет его друг Чернявский. Здесь, у небольшого обеденного стола с самоваром, он с друзьями – Орешиным, Ганиным, Чапыгиным – пек в печи и ел с солью «революционную картошку», и Есенин командовал женой: «Почему самовар не готов?», или: «Ну, Зинаида, что ты его не кормишь?», или: «Ну, налей ему еще!» Иногда приносил бутылку-другую вина, но сам не пил, выпивал только ради случая. Например, в день рождения. Да, именно здесь он встречал свою двадцать третью осень и, когда за столом уселись гости, взял вдруг Мину за руку и вывел в соседнюю комнату. Там сел за стол и написал стихотворение, посвященное ей, в котором была строфа: «Я вижу сонмы ликов // И смех их за вином, // Но журавлиных криков //Не слышу за окном…» Почему посвятил их Мине, не узнает даже она, но за окнами этой квартиры на Литейном журавли и впрямь не кричали…
Наконец, здесь Сергей и Зинаида, поссорившись, – это известно – выбросили вдруг в темное окно золотые обручальные кольца. Выбросили и оба кубарем скатились вниз, искать их в сугробах. Как это, думается, похоже на него: и жест красивый, чуть ли не блоковский («Я бросил в ночь заветное кольцо»), и бережливость крестьянская – все-таки золото… А в другой раз, приревновав ее к кому–то, не только сжег в семейной печи рукопись своей пьесы[136], но и набросился на жену с такими оскорблениями, пишет их дочь, что Зина, ахнув, рухнула на пол – «не в обморок, просто упала и разрыдалась». Он не подошел. Когда она наконец поднялась, он, держа в руках какую-то коробочку, крикнул: «Подарки от любовников принимаешь. »
Помирятся в тот же вечер, но именно тогда оба и перешагнули какую-то роковую грань. Ляжет между ними та коробочка…
Последний раз, еще до развода, встретив ее на перроне в Ростове, Есенин круто развернется на каблуках. Она успеет передать через Мариенгофа, что едет с сыном его, которого Есенин еще не видел. Он по настоянию друга нехотя зайдет в ее купе. Зинаида, гордясь, развяжет ленточки кружевного конвертика. «Фу! Черный, – поморщится поэт. – Есенины черные не бывают»… Зина расплачется, а Есенин легкой танцующей походкой выйдет из вагона…
Райх станет в конце концов женой Всеволода Мейерхольда. Это случится уже в Москве. И в Москве на одной из вечеринок тот спросит у поэта: «Если поженимся, сердиться на меня не будешь?» Есенин, ломаясь, поклонится Мейерхольду в ноги: «Возьми ее, сделай милость. По гроб тебе благодарен буду…» Про гроб ляпнет, видимо, не подумав, но именно у гроба поэта Райх, говорят, и крикнет: «Сережа! Ведь никто ничего не знает…» Да и убьют ее в 1939-м (зверски убьют – семнадцать, говорят, ножевых ран, ни одной в сердце) не из-за ареста Мейерхольда, как считалось, – из-за боязни, что много знает, что напишет воспоминания о Есенине. Версия, конечно. Но в сумасшедшем письме своем к Сталину, да еще в страшном 1937-м, Райх самоубийственно потребует от вождя: «Правду наружу о смерти Есенина…» Ну разве можно было так разговаривать с «учителем всех и времен и народов»?!
…Есенин же, расставшись с женой фактически еще в Петрограде, вновь отправится за славой. Куда? В Москву – новую столицу. За славой, не меньшей, чем у самого Шаляпина! Однажды они с Мариенгофом, уже в Москве, в арбатском переулке, увидят сильнейший пожар и заметят, что многие зеваки смотрят не на огонь, а на какого-то человека, высокого и отлично одетого. «Шаляпин… Шаляпин… Шаляпин…» – неслось со всех сторон. Тогда Есенин и скажет, не без какого-то внутреннего надрыва: «Вот какую славу надо иметь!
Чтобы люди смотрели не на пожар, а на тебя. » Он вернется в Петроград в ореоле именно такой славы. Но чем заплатит за нее – об этом я расскажу у другого дома Есенина.
32. ЛАСТОЧКИНА ПРИМЕТА (Адрес третий: Гагаринская ул., 1, кв. 12)
За год до смерти Есенину подала знак о гибели сама природа. Когда–то давно цыганка нагадала, что он умрет от воды, и поэт, если был трезв, ужасно боялся лодок, пароходов, кораблей. Ныне же его предупредила о гибели… ласточка, метнувшаяся у храма Христа Спасителя в Москве. Она, с писком мелькнув мимо, вспоминал молодой тогда поэт Эрлих, чиркнула Есенина крылом по лицу. Он вытер ладонью щеку и улыбнулся: «Смотри: смерть – поверье такое есть, – а какая нежная…» Так и осталось неясным: ласточка нежная или смерть? Но, заметьте, не испугался – улыбнулся страшному знаку.
Он, теперь «уже подшибленный», по выражению Андрея Белого, словно играл со смертью. То наберет телефонный номер сестры своей приятельницы и скажет: «Вы знаете, умер Есенин, приезжайте!» То предложит другу написать о нем некролог. «Преданные мне люди устроят мои похороны. Я скроюсь на неделю, на две. Посмотрим, как они напишут обо мне. Увидим, кто друг, кто враг!» Ну, чисто ребенок! Хотя детского, избяного («пеньковые волосы, васильковые глаза, любопытствующий носик», по выражению Федора Степуна) в нем почти не осталось.
…Итак, Есенин уехал в Москву за славой – не ниже, чем у Шаляпина. И он обрел ее! Скандальной женитьбой на Айседоре Дункан, которая была старше его на семнадцать лет («Он влюбился не в Айседору, – скажет Мариенгоф, – а в ее мировую славу»). Гомерическими кутежами, когда хватал за бороду известного тогда писателя Рукавишникова и окунал ее в горчицу. Кровавыми драками и хулиганским эпатажем, когда под покровом ночи вместе с друзьями выводил на стенах Страстного монастыря кощунственную строку: «Господи, отелись!» И конечно же – талантом! Что говорить, не в Петроград – в Ленинград уже явится действительно великим, почти всемирно известным поэтом. Но какой ценой далась ему эта слава!
Можно долго рассказывать о его «подвигах», а можно просто привести случай, который покажет, каким он был еще пять лет назад. Он жил тогда в одной комнате с Мариенгофом (считал его своей «тенью»), а тот, явившись однажды домой под утро, увидел Есенина спящим в обнимку с пустой – из-под сивухи – бутылкой. «Ты пил один?» – изумился Мариенгоф. «Да, – закричал Есенин, – и буду пить каждый день, ежели по ночам шляться станешь. С кем хочешь там хороводься, а чтобы ночевать дома!» Такие вот были у него правила, более всего ценил само понятие «дом»! Теперь же Есенин неделями не являлся ночевать, хмелел, как заправский алкоголик, от первой же рюмки, но главное – ныне у него не было не только домашности – самого дома. Жил в Москве где придется. Квартиру – даже после хождения друзей к «всесоюзному старосте» Калинину, писем в секретариат Троцкого – пообещали дать не раньше 1927 года, через два года, как повесится. Короче, когда он в апреле 1924-го приехал в Ленинград, у него не было уже ничего, кроме славы! Правда, славы высшей пробы – славы, как и предсказывал когда-то Городецкий, народного поэта!
Знаете ли вы, что в Москве он натурально подрался с Пастернаком: сцепились, как мальчишки! Осипу Мандельштаму публично бросил: «Вы плохой поэт. У вас глагольные рифмы», а Маяковскому кричал: «Россия моя, а ты, ты – американец!» Все трое, заметим, были уже знамениты, но никого из них не выносила толпа после поэтических вечеров на руках. А Есенина – из зала бывшей городской думы (Невский, 33/1), где устроили его вечер, – вынесли. И хотя на выступление свое Есенин опоздал (весь день просидел с друзьями в ресторане), хотя вывалился на сцену пьяным и, более того, немедленно чохом оскорбил собравшихся, да так, что мужчины стали уходить, пытаясь потянуть за собой женщин, которые, как ни странно, дружно отказались покидать зал, хотя сделал, наконец, все, чтобы сорвать свой же вечер, но… стоило зазвучать его стихам – и все были покорены. Его подняли на руки, как триумфатора, вынесли из зала и, останавливая движение на Невском, перенесли через проспект прямо к гостинице «Европейская». Свидетели пишут: не просто донесли – а разрывая на кусочки, на память, его галстук, шнурки от ботинок. Сам он написал Галине Бениславской в Москву: «Вечер прошел изумительно. Меня чуть не разорвали». Знал бы он, что через год его вынесут мертвым уже из другой гостиницы – «Англетер»…
Второй раз, в том же 1924-м, но уже в июне, он остановится на два месяца в огромной барской квартире на углу Гагаринской улицы и набережной Невы. Здесь, на втором этаже, жил с семьей его друг, тучный блондин с заплывшими глазами, Александр Сахаров, который за два года до этого издал есенинского «Пугачева». В Центральном госархиве в Петербурге мне ответили, что по домовой книге за 1923-1925 годы в этой квартире действительно проживали: Александр Михайлович Сахаров, двадцать девять лет, наборщик; Анна Ивановна, двадцать девять лет, домохозяйка; Николай Михайлович, двадцать четыре года, безработный… Возможно, Сахаров и был наборщиком, но с 1922 года звал себя издателем – это точно.
У Сахарова, как пишет Галина Бениславская, были «ключи от всех рукописей» Есенина. Поэт все терял, раздавал рукописи, фотографии, а что не раздавал, то у него крали. Тогда-то и распорядился: «Все ненужное… передавать на хранение Сашке». То есть Сахарову «У него мой архив, – говорил. – Я ему все отдаю». Уезжая за границу, хотел даже оставить Сахарову завещание на все печатные труды и неопубликованные рукописи, но хорошо, что не оставил, ибо скоро даже руку перестанет подавать Сахарову…
Жили Сахаровы в прекрасной «довоенной квартире со всей сохранившейся обстановкой особняков на набережной, – вспоминал бывавший здесь поэт Пяст. – В первых комнатах меня встретили “имажинята” последнего призыва. Черноволосые мечтательные мальчики, живущие, как птицы небесные, не заботящиеся о завтрашнем дне… Помню радушную встречу и вкусный завтрак с чаем, приготовленный на всю братию и сервированный с некоторым кокетством, то есть с салфетками, вилками, ножами, скатертью».
Ныне барский особняк разваливается буквально на глазах. Соседка Сахаровых по площадке, немолодая уже женщина, рассказывала мне, что мать ее, ныне покойная, не только помнила, но разговаривала с поэтом, видела, как шумной компанией они вываливались на улицу, как подолгу сидели в пивной на углу Гагаринской и Чайковского. Там и сейчас пивная. Соседка подивилась, что именно здесь, в этой квартире, поэт создал «Песнь о великом походе», читал законченную «Анну Снегину»[137], а однажды похвастался, что в один день написал сто строк, к которым даже сам не мог придраться. Но чаще он подолгу лежал на кровати, закинув руки за голову, и когда Сахаров однажды спросил его, что с ним, поэт ответил почти шепотом: «Не мешай мне, я пишу». А когда писатель Никитин заметит на подоконнике в передней небрежно брошенные черный плащ и черный цилиндр, Есенин, перехватив взгляд, скажет: «Привез зачем-то из Москвы эту дрянь. Цилиндр надеть, конечно, легче, чем написать “Онегина”…» Наконец, сюда однажды привел какую-то странную женщину лет пятидесяти, которая следовала за ним по пятам. «Сергей! – спросил Эрлих. – Ты что, ошалел, милый? На кой черт ты эту старуху привез?» – «Не я ее привез, а она меня привезла. – Есенин повернулся к Эрлиху: – Она – ведьма! Понимаешь? Я на извозчика, и она за мной! Я за ворота, она за мной! Что же мне ее – силой гнать. Да, понимаешь, мне показалось, что ее фамилия Венгерова!» – «Ну и что ж?» – пожал плечами Эрлих. «Господи! Да как ты понять не можешь? Я думал, она от словаря прислана! Понимаешь. » Эту же историю вспомнит и Надежда Вольпин, только фамилию «старухи» назовет другую – Брокгауз, именно ее поэт и представил Вольпин как «племянницу словаря»…
Впрочем, эта история, что называется, из безобидных. Потому как теперь поэт чудил, и чудил, как сказали бы нынче, «по-черному». Дело все чаще доходило до беды. У актера Ходотова (Невский, 60), где собиралась богема, где был как бы ресторан, который поэты и актеры звали меж собой «Вольные каменщики», Есенин, «сидя рядом с артисткой, – как рассказывал писатель Чапыгин, – уже во хмелю сказал ей из ряда выходящую сальность. Кто-то закатил ему пощечину. Есенин, понятно, ответил, и началась драка». Поэт содрал скатерть со стола, перебив все, что стояло на нем…[138] В другой раз затеет драку в каком-то притоне, где его, уже не церемонясь, не только изобьют до потери сознания, но и выбросят со второго этажа. Возможно, и прирезали бы, если бы кто-то случайно не узнал бы его. Видимо, тогда ему сломали нос, «вломилась внутрь боковая кость», да так, что потребовалась операция. Но в Москву – и поэту Казину, и своему «ангелу-хранителю» Бениславской – он по этому, кажется, случаю бодро напишет, что катался на лошади, упал и «немного проехал носом»[139]. Какая там лошадь, если даже Клюев скажет, глядя из-под бровей: «Ведь он уже свой среди проституток, гуляк, всей накипи Ленинграда. Зазорно пройтись вместе…»
Помните, Есенин хотел устроить свои похороны, чтобы узнать, кто друг, а кто враг ему? Увы, теперь «друзьями» его оказывались как раз «враги», человек тридцать, по словам критика Воронского, которые называли поэта «Сергуном», «Серьгой», ели и пили за его счет и трусливо разбегались при малейшей опасности. Таких Есенин терпел возле себя теперь. А настоящих друзей унижал, оскорблял, избивал. Бил даже преданных ему женщин. «Я сам боюсь этого, не хочу, но знаю, что буду бить. Я двух женщин бил, Зинаиду и Изадору… – говорил Галине Бениславской. – Для меня любовь – это страшное мучение». К 1924 году, перед приездом в Ленинград, приревновав Бениславскую, изобьет и ее. Потом порвет с ней, верной и, может быть, единственной защитницей его, порвет мелко, пересчитывая столы и стулья: «Это тоже мое, но пусть пока останется»… А позже, очухавшись, сообразив, что без нее он, беспутный, погибнет, Есенин явится к ней, в ее московский дом, трезвым. «Он открыл дверь и остановился у порога, – пишет некий Березин. – Она не подошла к нему. Только зарделась. Так они стояли молча несколько минут. “Прости”, – прошептал поэт. “Вон!” – крикнула она и указала на дверь. Как ужаленный, он бросился прочь. Она слышала, как стучали его шаги по лестнице. Он бежал, задыхаясь от обиды. Галя почти сразу опомнилась и бросилась за ним. “Сергей, Сережа, Сереженька! Вернись!” – кричала она, сбегая по лестнице с восьмого этажа. Эхо ее голоса гудело в лифтовом пролете. Но поэт как будто канул в воду».
Не в воду – в водку. Он прибежит к другу и потребует водки. «Мне крикнуть “вон”, – будет стучать кулаком по столу, – погоди же!» За столом окажется и Сахаров, приехавший из Ленинграда. Уж не тогда ли он и позвал поэта в свой город, предложив поселиться у него? Не знаю. Знаю, что здесь, в этот предпоследний свой приезд, Есенин попытается перерезать себе вены (будет носить потом черную повязку на руке), чуть не выбросится из окна у друга Эрлиха и даже отправится однажды на Мойку, чтобы утопиться. Не утопится – судьба подарит ему еще год и четыре месяца.
…Ласточка предупредила его о смерти. Может, потому ему было уже ничего не страшно. Даже превращать друзей во врагов. Говорят, правда, жалел об этом. Перед смертью напишет кровью стихотворение, с кем-то попрощается.
С кем – вопрос спорный и ныне. Но размышлять об этом мы будем вместе в следующей главе.
33. ПЕТЛЯ ПОЭТА (Адрес четвертый: Большая Морская ул., 39)
В мглистое, гнилое утро 24 декабря 1925 года Есенин, в котором теперь, как пишет Галина Серебрякова, «особенно тягостное впечатление производила его тощая шея», ступил на перрон Октябрьского (ныне Московского) вокзала. Он в последний раз приехал в Ленинград. Через пять дней, 29 декабря, его тело в узком желтом гробу привезут сюда же на дрогах и, по спецразрешению, занесут прямо к платформе не с главного входа – со стороны Лиговки.
Поэт приехал в Ленинград не умирать – жить. Готовить четырехтомник своих стихов (ему должны были прислать сюда гранки, и он гордился, что первым из великих поэтов увидит при жизни свое собрание сочинений), издавать журнал, выписать сюда сестер и мужа одной из них, поэта Наседкина. Именно Наседкину он даже намекнет, что в Ленинграде, возможно, женится, но только уже «на простой и чистой девушке». С внучкой Льва Толстого, последней своей женой, перед отъездом порвет – грубо, бесповоротно. Оскорбит, ударит ее, потом напишет резкое письмо из психушки, куда его вновь затолкают измученные родные и друзья. Оскорбленная Толстая, по слухам, придет к нему в палату с пистолетом и выстрелит в него. «Случай замяли, – пишет поэтесса Сидорина, – но врач Зиновьев расскажет обо всем своей дочери Наташе»[140], поскольку в тот самый день Есенин сбежит из больницы и его придется разыскивать. Правда – не правда, стреляла – не стреляла – это все тайны и псевдотайны последних дней поэта. Но из психушки Есенин действительно сбежит 21 декабря. А уже 24-го, повторяю, в бобровой шапке и шубе, из которой усохшей травинкой тянулась беззащитная шея, он шел по перрону в Ленинграде…
В Москве сказал, что остановится либо у Сейфуллиной, либо у Правдухина, либо у Клюева. И добавил: «Люблю Клюева». Но с вокзала поехал к Вольфу Эрлиху, на Бассейную (ул. Некрасова, 29), двадцатитрехлетнему литератору, с которым приятельствовал и кого накануне просил снять ему для жилья две-три комнаты. Есенин бывал у Эрлиха неоднократно и даже недолго жил у него. Однажды, например, Эрлих был разбужен оттого, что кто-то в комнате бубнил. «Вижу: Есенин в пижаме, босиком стоит у книжного шкафа… и считает: “Сто один, сто два, сто три”». – «Что ты делаешь?» – удивился Эрлих. «“Полтаву” подсчитывал, – ответил Есенин. – Знаешь, у меня “Гуляй-поле” – больше. Куда больше». В другой раз пришел и похвастался огромным медным перстнем, подарком Клюева: «Очень старинный! Царя Алексея Михайловича!» – «Как у Александра Сергеевича?» – выдохнул Эрлих, намекая на Пушкина. Есенин покраснел и тихо промычал: «Только знаешь что? Никому не говори! Они – дурачье! Сами не заметят! А мне приятно». – «Ну и дите же ты, Сергей! – сказал Эрлих. – А ведь ты старше меня». – «Да я, может быть, только этим и жив!» – ответил поэт.
Не застав Эрлиха дома, Есенин ждать его не стал, а, бросив три чемодана, отправился в ресторан Федорова (М. Садовая, 8). Увы, ресторан, видимо, был еще закрыт, и Есенин прикажет извозчику везти себя в «Англетер». Эрлиху потом объяснит, что поехал в «Англетер», поскольку там остановились его друзья Устиновы. Это, кажется, не так: о том, что Устиновы в «Англетере», он узнает от швейцара гостиницы, когда подъедет к ней. Причина, думаю, была в другом: именно в «Англетере» почти четыре года назад, в пору оглушительного успеха своего, жил он с Айседорой Дункан. Он и номер-то снимет теперь именно тот, 5-й, где они останавливались когда-то. Тогда в этой комнате было холодно, не грели трубы, и Есенин с администратором Дункан Ильей Шнейдером попеременно взбирались на письменный стол и, как рассказывает Шнейдер, «щупали руками верхушку трубы отопления, спускавшейся по стене». Да, тогда в номере было холодно, но поэта и танцовщицу окружали тепло и любовь. Теперь в 5-м было даже жарко – это известно из воспоминаний, – но вокруг поэта как-то незаметно образовалась ледяная пустыня. И именно на той трубе под потолком, которая, как давняя знакомая, помнила его ладони, он и захлестнет веревку от чемодана – всего-то полтора оборота…
«Англетер» в те годы назывался «Интернационал» (Б. Морская, 39). Гостиница, как пишут ныне, была «режимной», в нее жильцов вселяло ГПУ. До революции на месте 5-го номера была аптека, а через еще одну дверь в номере – она была заставлена шкафом – можно было пройти на бывший склад аптеки. В подъезде гостиницы теперь стояло чучело горного барана, а в вестибюле – медведя. Там же, в вестибюле, были диван, кресла, французские ковры, зеркала. Вот в обществе этих чучел поэт, обожавший живое зверье, и просиживал по полночи в красном своем халате, в стареньких круглых очках на носу, которых, вообще-то, очень стеснялся. Просиживал, потому что боялся оставаться один в номере – об этом вспоминают почти все.
Четыре дня и три ночи, проведенные Есениным здесь, известны едва ли не по минутам. Это не считая легенд, слухов, сплетен, домыслов, сумасшедших версий… вроде той, что существовал-де подземный ход между «Англетером» и домом напротив, где, говорят, была тайная тюрьма ГПУ и где якобы убили поэта, а потом, протащив его по подземному ходу, уже в 5-м номере инсценировали самоубийство[141].
Да, странностей в смерти поэта хватает. Но все они какие-то косвенные. Исчезли, например, документы гостиницы за 1925 и 1926 годы, а в чудом сохранившейся инспекционно-финансовой книге имени Есенина нет вообще, согласно ей в 5-м номере проживал в это время какой-то Крюков, работник кооперации из Москвы. Странно, что после смерти Есенина многие работники гостиницы, начиная с коменданта, были уволены. Комендант же, вынимавший поэта из петли, с 1 января 1926 года получил прибавку к жалованью, отпуск, но, как рассказывала жена его, долго еще кричал по ночам, хватался за наган под подушкой и много лет не рассказывал ей подробности тех дней. Но главная странность – а может, закономерность? – заключалась в том, что все свидетели, понятые и даже «друзья» Есенина (литературовед Павел Медведев, поэт Василий Князев, литератор Лазарь Берман и даже многолетний приятель по кличке Почем Соль – Григорий Колобов) в той или иной степени, как пишут, имели отношение к ГПУ. То есть, как ни страшно это произносить, но поэт оказался «в петле» ГПУ задолго до петли веревочной. В «мертвой петле», как написал в прощальном слове Борис Лавренев.
Можно много и убедительно рассказывать о последних днях Есенина. Но лучше привести слова, сказанные им здесь. Последние фразы. Например, друзьям скажет: «Бежал из чертовой Москвы». С Устиновой неожиданно разоткровенничается: «Жизнь штука дешевая, но необходимая. Я ведь “божья дудка”…» – «Как это понимать?» – спросит она. И Есенин ответит: «Это когда человек тратит из своей сокровищницы и не пополняет. Пополнять ему нечем и неинтересно»[142]. А Эрлиху за день до самоубийства скажет вообще нечто туманное: «Я здесь, потому что я должен быть здесь. Судьбу мою решаю не я, а моя кровь». Эрлиху, кстати, и отдаст последнее стихотворение, написанное кровью, которое до 1930 года так никто и не увидит.
Говорят, в последнюю ночь Есенин стучался к соседям по «Англетеру», друзьям Устиновым. «Мы уже спим… – ответила Устинова. – Извини… я не одета». – «Тетя Лиза, места не нахожу. Что делать? Тоска такая – хоть вешайся». – «Сережа, ночь давным-давно, побойся Бога. Если совсем голову потерял, считаешь, что полегчает, если повесишься, то вешайся. Завтра поговорим, а сейчас иди – спи». Поэт, вспоминают, извинился, что побеспокоил, и ушел. Навсегда ушел…
Потом про самоубийство Есенина Галина Бениславская напишет таинственную фразу: «И знаю еще: уже оттолкнув тумбу, он опомнился, осознал, хотел вернуться и схватился за трубу. Было поздно». Сама она, застрелившаяся, как известно, на могиле поэта, предусмотрела все и написала в записке: «Если финка будет воткнута… после выстрела в могилу – значит, даже тогда я не жалела. Если жаль – заброшу ее далеко…» Стальная женщина, ничего не скажешь…
Впрочем, меня в воспоминаниях о смерти поэта изо всех жутких подробностей резанули две детали. Первая – это слова в медицинском заключении, составленном судмедэкспертом Гиляревским: «…рот сжат, кончик языка ущемлен между зубами». И хотя я знаю (кто этого не знает?!), что повешенные обычно прикусывают язык, перечитать фразу я не мог. Ведь поэт еще недавно спорил о словарях с любимой им Надеждой Вольпин, которая жила здесь, в Ленинграде, и у которой от него останется ребенок, и в запале гордо выкрикнул: «Язык – это я!» Да, речь идет о другом значении слова, но читать заключение дальше было невозможно.
И вторая деталь: когда поэта вынесли из «Англетера» черным ходом во двор (через главную дверь категорически запретило начальство), вынесли на мороз в ночной рубашке, в серых брюках и в носках и положили на дровни, то голова Есенина не поместилась на коротких санях – она свешивалась с них и ударялась о мостовую. «Милиционер, – как пишет свидетель, – весело вспрыгнул на дровни, и извозчик так же весело тронул…»
Убили ли поэта? Не знаю. Знаю другое: скоро никого из тех, кто считался поэтом «есенинского круга», в живых не останется. Пустыня окажется на месте крестьянской поэзии России. Считайте сами: Алексей Ганин – расстрелян в 1925-м, несмотря на то, что в тюрьме сошел с ума; Павел Васильев – приговорен к расстрелу 15 июля 1937 года; Иван Приблудный – расстрелян в том же году вместе с первым сыном Есенина, Георгием; Сергей Клычков – расстрелян 8 октября 1937 года; Николай Клюев – 23 октября того же 1937-го; Василий Наседкин, муж сестры поэта, и Петр Орешин – 15 марта 1938 года…
А что же предсмертные стихи, написанные кровью? Известно, что поэт быстро сунул их в карман пиджака Эрлиха: «Это тебе». А когда тот потянулся прочесть, улыбнулся: «Не читай. Успеешь!» Эрлих, как он вспоминал потом (чему, вообще-то, мало кто верит!), не успел – прочел после смерти поэта. И больше это стихотворение (оригинал, написанный кровью) до 1930 года никто не видел. Через годы Эрлих признается некоей Каминской: он с Есениным вместе договорился покончить с собой; он должен был прийти к поэту в гостиницу, но не пришел. «Когда же я спросила, как это случилось, что он не пришел, – пишет Каминская, – Эрлих… был очень смущен…» Вольфа Эрлиха тоже расстреляют в 1937-м, и он уже ничего не ответит нам, потомкам. Но в воспоминаниях его осталась одна загадочная фраза: «И наконец, пусть он (Есенин. – В.Н.) простит мне наибольшую мою вину перед ним, ту, которую он знал, а я – знаю»… Кто только не ломал голову над этой фразой! Многие сходились на том, что фраза должна была заканчиваться иначе – ту вину, «которую он не знал, а я – знаю». Это «не» даже внесут потом в некоторые переиздания книги Эрлиха «Право на песнь».
Впрочем, важнее другое: исследователи гадают – что же это за вина? Так вот, журналист Вержбицкий, хорошо знавший Есенина, высказал догадку: вина Эрлиха в том, что он не передал предсмертное письмо Есенина Гале, а из тщеславия заявил, что оно было адресовано ему… Так это или нет? Эрлих воспоминаний своих не закончил. На словах вроде бы говорил друзьям, что никогда не утверждал, будто «письмо» посвящено ему Одно ясно: Галя – это Бениславская. А «письмо» – предсмертное стихотворение: «До свиданья, друг мой, до свиданья…» Неизвестно, догадалась ли Бениславская, перед тем как нажать курок на могиле Есенина, что стихотворение обращено к ней? Известно другое: именно Бениславской едва ли не в последнем своем письме Есенин напишет, как мог бы написать только единственному другу: «Не надо мне этой глупой шумливой славы, не надо построчного успеха. Боже мой, какой я был дурак. Я только теперь очухался. Все это было прощание с молодостью…» Прощание, обернувшееся прощанием с жизнью…
«Ах, доля-неволя, глухая тюрьма. Долина, осина. Могила темна…»
Это не стихи его, это песня, которую он несколько раз принимался петь в 5-м номере «Англетера». Она ему в тот год страшно нравилась…
Что ж, такую песню только в пустыне и петь…
Примечания:
В.Черных настаивает, что это была всего лишь служебная квартира отца Анны Ахматовой, Андрея Антоновича Горенко, в прошлом капитана 2-го ранга, старшего штурмана, а в 1891-м, в год жизни здесь, чиновника для особых поручений Государственного контроля и коллежского асессора. Вполне возможно, хоть и не ясно, что понимать под словом «служебная»: ему дали ее от службы для проживания в ней, дали исключительно для служебных встреч или он сам снял ее, чтобы быть поближе к работе? Почему же не предположить, что семья его бывала здесь, когда приезжала в Петербург? Или даже останавливалась по этому адресу на день-другой? Подтверждений, конечно, этому нет. Это мое предположение. В Петербурге семья могла останавливаться и у сестры отца, у Анны Антоновны Горенко (8-я Рождественская, ныне 8-я Советская ул., 28).
В откровенной биографической книге о нем Аннабел Фарджен (ох уж эти смелые европейские биографии!) пишет, что в семь лет Борис, читая книгу об индейском племени, впервые испытал эротическое чувство. Годовалого брата его, Глеба, кормилица в это время как раз держала у груди, и Борис, увидев обнаженное тело, бросился, как вспоминал, на молодую женщину и на манер индейцев стал целовать ее. «Женщина развеселилась и, — как пишет Фарджен, — не стала отказывать себе в этом маленьком удовольствии». Потом в Основе, ярославском имении отца, он и братья его не давали прохода местным молодкам, а те, в свою очередь, даже почетным считали переспать с кем-нибудь из них. Позже, решив, что светский человек просто обязан иметь роман с балериной, Борис влюбился в танцовщицу кордебалета Мари- инки Целину Спрышинскую, писал ей стихи, встречал ее после спектаклей в отцовском экипаже, сделал даже предложение, которое было немедленно принято, но вовремя одумался (Спрышинская выйдет впоследствии замуж за Кшесинского, брата знаменитой Матильды). А в другой раз, потеряв голову от красавицы-гувернантки, он кинется за ней на край света, в Мексику, но, кроме желтухи, приковавшей его на несколько месяцев к постели, ничего из путешествия не вынесет. Словом, сердечная жизнь Анрепа была сложной и разнообразной не только до встречи с Ахматовой — даже до первой женитьбы его.
Воевал Анреп в 7-м кавалерийском корпусе в Галиции, служил в штабе, ходил в разведку, стал офицером связи между корпусами и на «великолепном коне» носился под пулями вдоль окопов. Храбр был от природы — пять боевых наград. «Ужасы войны, — напишет о нем Олдос Хаксли, — его только развлекали». Сам Анреп о боях скажет странную фразу: война — «всего лишь балет, люди бегут, падают, всего лишь балет. ».
Курсивом я выделил слова, которые в семисотстраничном сборнике «Воспоминания об Анне Ахматовой» (М.: Советский писатель, 1991) оказались кем-то и почему-то изъятыми. Цензуры в тот год, сколько помню, уже не было, да и не цензурное это — «нравственное» сокращение. Кто-то заботился то ли о нашей морали, то ли — страшно подумать! — о морали Ахматовой. Словно ощущаешь чье-то тайное «превосходство» — нам, ахматоведам, можно знать все, а вам, читатель, только то, что мы позволим. Примерно так же сотрудники КГБ, как рассказывал мой приятель литературовед Шенталинский, уничтожив в начале перестройки девятисотстраничное «Наблюдательное дело» об Ахматовой, сказали ему, оправдываясь: «Ну, нельзя же порочить Анну Андреевну». Как будто они, возмущался Шенталинский, могут ее опорочить.
Есенин жаловался Чернявскому, что Клюев и впрямь ревновал его к женщине, с которой у него был первый роман в Петрограде: «Только я за шапку, он — на пол. сидит и воет во весь голос по-бабьи; не ходи, не смей к ней ходить. » Клюев, выходец из хлыстов, не скрывал своих гомоэротических наклонностей. И.Кон, известный сексопатолог, пишет в своей книге, что «со стороны Клюева эта дружба определенно была гомоэротической». Есенин называл Клюева своим «учителем», «дяденькой», приставленным к нему, но С.Городецкому однажды сказал вдруг с ненавистью: «Ей-богу, я пырну ножом Клюева. ».
Рассказы Есенина о первой встрече с Блоком не только чересчур литературны, но, кажется, и приукрашены им. Специалисты пишут, что Есенин, не застав Блока, оставил, оказывается, записку: «Александр Александрович! Я хотел бы поговорить с Вами. Дело для меня очень важное. Вы меня не знаете, а может быть, где и встречали по журналам мою фамилию. Хотел бы зайти часа в 4. С почтением С.Есенин». Записку эту потом так и не нашли, а пометой Блока был сопровожден другой есенинский текст: «Я поэт, приехал из деревни, прошу меня принять». Именно эти слова записки повторит потом в комментариях к записным книжкам Блока В.Орлов. Ныне считается, что короткий этот текст (одно предложение) — всего лишь пересказ А.Блока той, первой записки Есенина.
Впрочем, поэтические амбиции 1920-х г. были у Есенина уже гораздо скромнее амбиций 1915 г. Если в 1920-х он ставил себя выше Блока, то в октябре 1915-го на квартире старейшего писателя И.Ясинского (Лисичанская, 9) Есенин, еще ничего почти не напечатавший, тем не менее в ответ на совет И.Ясинского больше читать Пушкина, сказал: «Что мне Пушкин! Разве я не прочел Пушкина? Я буду больше Пушкина. » Когда дочь Ясинского упрекнула его за самоуверенность, он неожиданно мягко ответил: «Если бы Иероним Иеронимович упрекнул меня наедине. сказал бы с глазу на глаз. А то сидит Федор Сологуб с бородавкой на щеке и думает, что я не читал Пушкина. А я Пушкина люблю. Но сейчас России нужны другие стихи, иная поэзия. ».
Реально помог ему Городецкий. Он, как установлено, обратился к уполномоченному Ее Величества полковнику Ломану с просьбой зачислить поэта в санитары. Д.Ломан был всесилен — оба его сына, например, были крестниками царя и царицы. По его просьбе Есенин был назначен в 6-й вагон санитарного поезда. Ему присвоили личный знак №9999, выдали фуражку, гимнастерку, погоны, шинель, ремень, две пары рубашек нижних, три пары портянок и флягу. Кажется, с помощью Д.Ломана поэт станет позже и писарем. Сам Есенин в автобиографии напишет: «При некотором покровительстве полковника Ломана, адъютанта императрицы, был представлен ко многим льготам».
С дезертирством путаницы в биографии Есенина еще больше. По «делам поезда» он якобы был командирован в Могилев. «В пути меня застала революция, — писал он позже. — Возвращаться в Петербург я побоялся. Пришлось сигануть в кусты; я уехал в Константиново. Переждав там недели две, я рискнул показаться в Петербурге и в Царском Селе. Ничего, обошлось. » В «Автобиографии» подчеркнет: «В революцию покинул самовольно армию Керенского», а в поэме «Анна Онегина» напишет, что, когда сгоняли «на фронт», он, «под грохот и рев мортир», другую проявил отвагу — «был первый в стране дезертир». По одной версии, был арестован на десять суток, по другой — просидел на гауптвахте полгода, по третьей — был отправлен в дисбат, ибо отказался писать оду на 6 декабря 1916 г. — именины царя. Что тут правда — неизвестно. Когда в 1920 г. его арестуют, то на допросе в МЧК Есенин скажет: «Был призван на военную службу в 1915 г. С 29 августа 1916 по февральскую революцию сидел в дисциплинарном батальоне, то есть 5 с лишним месяцев был под арестом». На следующем допросе, видимо, войдя в роль борца с царизмом, он смело прибавит себе еще полгода наказания: «За оскорбление престола, — заявит, — был приговорен на 1 год дисциплинарного батальона».
На этом доме ныне — мемориальная доска. Но, судя по воспоминаниям друзей поэта, первой его комнатой, куда он привел жену, была комната, снятая им же на Литейном (Литейный, 49), но ближе к Невскому. Об этом пишут В.Чернявский и Н.Никитин. Оба помнят, что окна первой комнаты выходили именно на проспект. «Однажды с Есениным мы ехали на извозчике по Литейному, — вспоминал Никитин. — Увидев большой серый дом в стиле модерн на углу Симеоновской, он с грустью сказал: “Я здесь жил когда-то. Вот эти окна. Тогда у меня была семья. Был самовар. Как у тебя. Потом жена ушла”».
Видимо, здесь Есенин записался в боевую дружину, которая формировалась в бывшем Пажеском корпусе (Садовая, 26). А.Блок 21 февраля 1918 г. отметил у себя в дневнике: «Есенин записался в боевую дружину». Д.Семеновский утверждает, что в ответ на обращение В.Ленина «Социалистическое отечество в опасности», написанное в связи с немецким наступлением в 1918 г., «Есенин записался в дружину». Сам Есенин позже скажет: «Блок и я — первые пошли с большевиками». Потом опровергнет это: «В РКП я никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее. » Но заявление «в большевики», как утверждал его старший друг Г.Устинов, бывший тогда секретарем газеты «Правда», в январе-феврале 1919 г., кажется, подавал.
Кстати, отношения между Есениным и Миной Свирской, будущей известной эсеркой, были настолько чисты, что лишь через год, на дне рождения поэта, как вспоминала Мина, они впервые перешли на «ты»: «Есенин настоял, чтобы я с ним и с Алешей выпила на брудершафт, — напишет об этом вечере Мина Свирская. — Мы выпили. Ганин стал придумывать для меня штраф, если я буду сбиваться с «ты” на “вы”».
Пьеса называлась «Крестьянский пир». Уничтожил ее, по некоторым сведениям, уже «в корректуре». «Андрей Белый, — вспоминал Есенин, — до сих пор не может мне этого простить: эта пьеса ему очень нравилась, да я и сам иногда теперь жалею. ».
Кстати, имя героини этой поэмы Есенин позаимствовал у некой писательницы О.Онегиной (настоящая фамилия — Сно), в петроградском доме которой (Херсонская ул., 1, кв. 8) еще до революции, конечно, и бывал, и читал стихи.
Квартиры Н.Ходотова, актера и писателя, где бы ни жил он (Коломенская, 42, Глазовская, 5, и т.д.), всегда были не просто местом встреч интеллигенции, но, как ни странно, и местом «выяснения отношений». Хозяин не мог не помнить, например, как еще в 1911 г. Куприн, разгоряченный водкой, едва не придушил у него другого классика — Леонида Андреева. Того еле вырвали из рук Куприна, который применил какой-то запрещенный в борьбе прием (кажется, «удавку»), А успокоили драчуна лишь тогда, когда четыре человека (!) натуральным образом уселись на него. В 1924 г. уже Есенин тут, на Невском, после вечера Рины Зеленой, устроил скандал. «Часа в три ночи. — пишет Л.Гинзбург, — в зал вваливается Есенин. Некоторое время сидит покачиваясь, потом. разражается невероятнейшей матерщиной. Дамы поднимают визг, мужчины бросаются к Есенину. Рина великодушно попыталась спасти положение; она взобралась на стол и потребовала, чтобы ей дали слово. Когда установилась. тишина, она дружески обратилась к “знаменитому поэту»: “Дорогой Есенин, перестаньте. Ваши трехэтажные ругательства здесь не пройдут. Петербург никогда не поймет Москву. ” Это положения не спасло, и один драматург (М.Волобринский. — В.Н.) дал пьяному поэту по физиономии». По словам В.Эрлиха, ударил со словами: «Ты жидов ругаешь? Получай. » Говорят, на другой день Есенин поехал к Рине и полчаса на коленях молил ее о прощении.
15 июля 1924 г. Есенин пишет ей: «Галя милая! Ничего не случилось, только так, немного катался на лошади и разбил нос. У меня от этого съехал горб (полученный тоже при падении с лошади). Хотели справить, но, вероятно, очень трудно. Вломилась внутрь боковая кость. Очень незаметно с виду, но дышать плохо. В субботу ложусь на операцию. 2 недели пролежу. ».
П.М.Зиновьев, психиатр. Работал в психиатрическом отделении. Был лечащим врачом Есенина. Его старшая дочь, Н.П.Милонова, и ее муж, поэт Иван Приблудный, друг Есенина, уговорили Зиновьева спрятать Есенина в больнице от чекистов (см.: Мой дед прятал Есенина от чекистов // Известия. — 2008. — 28 марта).
А.Мариенгоф, хорошо знавший С.Есенина, напишет в книге «Мой век, мои друзья и подруги»: «К концу 1925 года решение “уйти” стало у него (Есенина. — В.Н.) маниакальным. Он ложился под колеса дачного поезда, пытался выброситься из окна, перерезать вену обломком стекла, заколоть себя кухонным ножом». Разумеется, можно спорить и доказывать, что поэта все-таки «убили», что он «не сам» полез в петлю, что кому-то «очень мешал» (и факты иногда подтверждают это), но от свидетельства Мариенгофа нам все равно не уйти. Ведь все попытки Есенина покончить с собой, которые приводит Мариенгоф, да и те, которые не приводит, на самом деле были.
Повторяю, загадок, вокруг смерти Есенина, много. Одна из них связана с этой семейной парой — с Устиновыми. Он (журналист спецпоезда Л.Троцкого, сотрудник «Правды» и «Известий», как помните, принимал когда-то от Есенина заявление в партию) был одним из немногих свидетелей событий в «Англетере». И вдруг 10 декабря 1932 г., Г.Устинов, как и Есенин, — вешается. Причем вешается — вот загадка! — на другой день после того, как в частной беседе обещает наконец рассказать о последних часах жизни Есенина. Случайность? Возможно. Но таких случайностей, повторяю, слишком много.