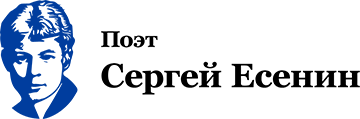О родной стране, о России
24.01.2018Известные портреты Есенина
24.01.2018Сергей есенин великий русский поэт

Великий русский поэт Сергей Есенин
 Третьего октября родился великий русский поэт Сергей Есенинн и я решила обновить свои впечатления от «Романа без вранья» Анатолия Мариенгофа , написанного им в 1926 году, когда еще была свежа в памяти трагическая смерть поэта. Книга очень грустная и нежная.
Третьего октября родился великий русский поэт Сергей Есенинн и я решила обновить свои впечатления от «Романа без вранья» Анатолия Мариенгофа , написанного им в 1926 году, когда еще была свежа в памяти трагическая смерть поэта. Книга очень грустная и нежная.
Особенно одиноким и трагическим показался мне в этот раз образ русского поэта, хотя вряд ли Мариенгоф, четыре года не расстававшийся с Есениным, с которым вместе жил, ел и пил, специально задавался такой целью.
Но тем не менее, Сергей Есенин у Мариенгофа, при всех нападках и критике в адрес этой книги, называемой многими пасквилем на русского поэта, получился живым, трогательным, очень одиноким и ранимым человеком, каким он и был.
Поэтому никакого отторжения «Роман…» не вызвал. Скорее наоборот – захотелось поделиться некоторыми отрывками из нее и тем почтить память великого русского поэта, который жил, как умел, и писал, как чувствовал.
. У Есенина всегда была болезненная мнительность. Он высасывал из пальца своих врагов; каверзы, которые против него будто бы замышляли; и сплетни, будто бы про него распространяемые. Мужика в себе он любил и нес гордо. Но при мнительности всегда ему чудилась барская снисходительная улыбочка и какие-то в тоне слов неуловимые ударения
У Есенина уже была своя классификация образов. Статические он называл заставками, динамические, движущиеся — корабельными, ставя вторые несравненно выше первых; говорил … о коньке на крыше крестьянского дома, увозящем, как телегу, избу в небо, об узоре на тканях, о зерне образа в загадках, пословицах и сегодняшней частушке.
Есенин поучал: «Так, с бухты-барахты, не след идти в русскую литературу. Искусную надо вести игру и тончайшую политику». И тыкал в меня пальцем: «Трудно тебе будет, Толя, в лаковых ботиночках и с проборчиком волосок к волоску. Как можно без поэтической рассеянности? Разве витают под облатками в брючках из-под утюга! Кто этому поверит. А еще очень не вредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят… Каждому надо доставить свое удовольствие. Знаешь, как я на Парнас восходил?…»
И Есенин весело, по-мальчишески захохотал. «Тут, брат, дело надо было вести хитро. Пусть, думаю, каждый считает: я его в русскую литературу ввел. Им приятно, а мне наплевать. Городецкий ввел? Ввел. Клюев ввел? Ввел. Сологуб с Чеботаревской ввели? Ввели. Одним словом: и Мережковский с Гиппиусихой, и Блок, и Рюрик Ивнев… к нему я, правда, первому из поэтов подошел….
и не успел я еще стишка в двенадцать строчек прочесть, а он уже тоненьким таким голосочком: «Ах, как замечательно! Ах, как гениально! Ах…» и, ухватив меня под ручку, поволок от знаменитости к знаменитости, «ахи» свои расточая. Сам же я — скромного, можно сказать, скромнее. От каждой похвалы краснею как девушка и в глаза никому от робости не гляжу. Потеха!»

Есенин улыбнулся. Посмотрел на свой шнурованный американский… и по-хорошему чистосердечно (а не с деланной чистосердечностью, на которую тоже был великий мастер) сказал: «…за мировой славой в Санкт-Петербург приехал, за бронзовым монументом…»
Есенин помолчал. Глаза из синих обернулись в серые, злые. Покраснели веки, будто кто простегнул по их краям алую ниточку: «Ну а потом таскали меня недели три по салонам — похабные частушки распевать под тальянку. Для виду спервоначалу стишки попросят. Прочту два-три — в кулак прячут позевотину, а вот похабщину хоть всю ночь зажаривай… Ух, уж и ненавижу я всех этих Соллогубов с Гиппиусихами!»
Долго еще, по привычке, критика подливала масла в огонь, величая Есенина «меньшим клюевским братом». А Есенин уже твердо стоял в литературе на своих собственных ногах, говорил своим голосом и носил свою есенинскую «рубашку» (так любил называть он стихотворную форму).
…хочется добавить еще несколько черточек, пятнышек несколько. Не пятнающих, но и не льстивых. Только холодная, чужая рука предпочтет белила и румяна остальным краскам. Обхождение — слово-то какое хорошее. Есенин всегда любил слово нутром выворачивать наружу, к первоначальному его смыслу.
В многовековом хождении затрепались слова. На одних своими языками вылизали мы прекраснейшие метафорические фигуры, на других — звуковой образ, на третьих — мысль, тонкую и насмешливую. Может быть, от настороженного прислушивания к нутру всякого слова и пришел Есенин к тому, что надобно человека обхаживать.
«А знаешь, Борис Федорович, ведь тебя за это, я так полагаю, медалью пожалуют!» От такого есенинского слова (уж очень оно смешное и теплое) и без того добрейший Малкин добреет еще больше. Глядишь — и подписан заказ на новое полугодие.
Есенин же, сообразив немедля наивное обаяние изобретенной им только что медали, уже припрятал ее в памяти на подходящие случаи жизни. А так как случаев подобных, благодаря многочисленным нашим предприятиям, представлялось немало, то и раздача есенинских медалей шла бойко.
Вот и Есенин…. замечательно знал для каждого секрет…: чем расположить к себе, повернуть сердце, вынуть душу. Отсюда его огромное обаяние. Обычно — любят за любовь. Есенин никого не любил, и все любили Есенина.
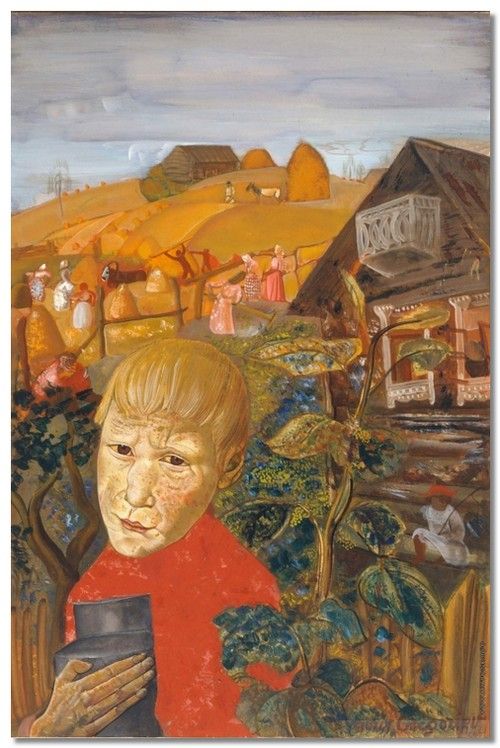
Борис Григорьев . Детство Сергея Есенина. 1923
К отцу, к матери, к сестрам (обретавшимся тогда в селе Константинове Рязанской губернии) относился Есенин с отдышкой от самого живота, как от тяжелой клади. Денег в деревню посылал мало, скупо, и всегда при этом злясь и ворча. Никогда по своему почину, а только — после настойчивых писем, жалоб и уговоров.
«Знать вы там ничего не желаете, а я вам что мошна: сдохну — поплачете о мошне, а не по мне». Вытаскивал из-под подушки книгу и в сердцах вслух читал о барышнике, которому локомотивом отрезало ногу. Несут того в приемный покой, кровь льет — страшное дело, а он все просит, чтобы ногу его отыскали, и все беспокоится, как бы в сапоге, на отрезанной ноге, не пропали спрятанные двадцать рублей.
«Все вы там такие…» Отец вытирал грязной тряпицей слезящиеся красные глаза, щипал на подбородке реденькую размохрявленную рогожку и молчал. Под конец Есенин давал денег и поскорей выпроваживал старика из Москвы.
Сам же бесконечно любил и город, и городскую жизнь, и городскую панель, исшарканную и заплеванную. За четыре года, которые мы прожили вместе, всего один раз он выбрался в свое Константиново. Собирался прожить там недельки полторы, а прискакал через три дня обратно, отплевываясь, отбрыкиваясь и рассказывая, смеясь, как на другой же день поутру не знал, куда там себя девать от зеленой тоски. Сестер же своих не хотел везти в город, чтобы, став «барышнями», они не обобычнили его фигуры.
Держась за руки, мы бежали с Есениным по Кузнецкому Мосту. Вдруг я увидел его. Он стоял около автомобиля. Опять очень хороший костюм, очень мягкая шляпа и какие-то необычайные перчатки. Опять похожий на иностранца… с нижегородскими глазами и бритыми, мягко округляющимися, нашими русапетскими скулами.
Я подумал: «Хорошо, что монументы не старятся!» Так же обгоняющие тыкали в его сторону пальцами, заглядывали под шляпу и шуршали языками: «Шаляпин». Я почувствовал, как задрожала от волнения рука Есенина. Расширились зрачки. На желтоватых, матовых его щеках от волнения выступил румянец. Он выдавил из себя задыхающимся (от ревности, от зависти, от восторга) голосом: «Вот так слава!»
И тогда, на Кузнецком Мосту, я понял, что этой глупой, этой замечательной, этой страшной славе Есенин принесет свою жизнь.
Несколько месяцев спустя мы катались на автомобиле — Есенин, скульптор Сергей Коненков я. Коненков предложил заехать за молодыми Шаляпиными (Федор Иванович тогда уже был за границей). Есенин обрадовался предложению. Заехали. Есенин усадил на автомобиле рядом с собой некрасивую веснушчатую девочку. Всю дорогу говорил ей ласковые слова и смотрел нежно.
Вечером (вернулись мы усталые и измученные — часов пять летали по ужасным подмосковным дорогам) Есенин сел ко мне на кровать, обнял за шею и прошептал на ухо: «Слушай, Толя, а ведь как бы здорово получилось: Есенин и Шаляпина… А?… Жениться, что ли?…»

Над Большим театром четыре коня взвились на дыбы. Рвут вожжи и мускулы на своих ногах. И все без толку. Есенин посмотрел вверх: «А ведь мы с тобой вроде этих глупых лошадей. Русская литература будет потяжельше Большого театра». И он в третий раз стал перечитывать статейку в журнальчике. Статейка последними словами поносила Есенина. Где полагается, стояла подпись: «Олег Леонидов».
Я взял из рук Есенина журнальчик, свернул его в трубочку и положил в карман. «О Пушкине и Баратынском тоже писали, что они — прыщи на коже вдовствующей российской литературы…»
Есенин ловил ухом и прятал в памяти каждое слово, сказанное о его стихах. Худое и лестное. Ради десяти строк, напечатанных о нем в захудалой какой-нибудь газетенке, мог лететь из одного конца Москвы в другой. Пишущих или говорящих о нем плохо как о поэте считал своими смертельными врагами.
В те дни человек оказался крепче лошади. Лошади падали на улицах, дохли и усеивали своими мертвыми тушами мостовые. Человек находил силу донести себя до конюшни, и если ничего не оставалось больше, как протянуть ноги, он делал это за каменной стеной и под железной крышей.
Мы с Есениным шли по Мясницкой. Число лошадиных трупов, сосчитанных ошалевшим глазом, раза в три превышало число кварталов от нашего Богословского до Красных ворот. Против почтамта лежали две раздувшиеся туши. Черная туша без хвоста и белая с оскаленными зубами.
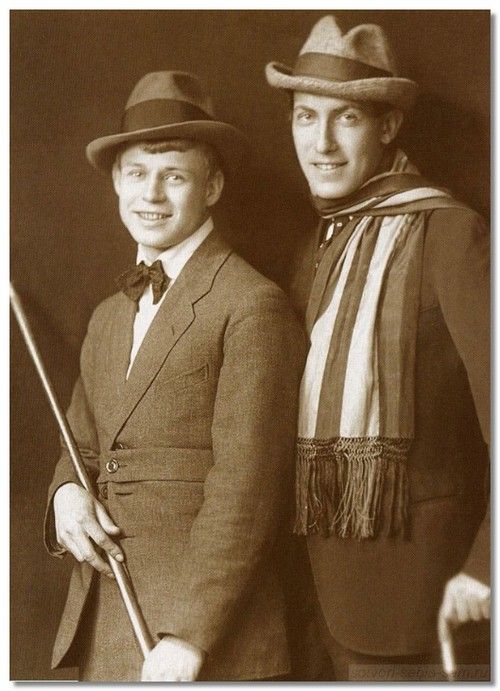
Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф
На белой сидели две вороны и доклевывали глазной студень в пустых орбитах. Курносый ирисник в коричневом котелке на белобрысой маленькой головенке швырнул в них камнем. Вороны отмахнулись черным крылом и отругнулись карканьем. Вторую тушу глодала собака.
Все это я рассказал для того, чтобы вы внимательнее перечли есенинские «Кобыльи корабли» — замечательную поэму о «рваных животах кобыл с черными парусами воронов; о солнце, стынущем, как лужа, которую напрудил мерин; о скачущей по полям стуже и о собаках, сосущих голодным ртом край зари».
Буду петь, буду петь, буду петь!
Не обижу ни козы, ни зайца.
Если можно о чем скорбеть,
Значит, можно чему улыбаться.
Все мы яблоко радости носим,
И разбойный нам близок свист.
Срежет мудрый садовник осень
Головы моей желтый лист.
В сад зари лишь одна стезя,
Сгложет рощи октябрьский ветр.
Все познать, ничего не взять
Пришел в этот мир поэт.
Он пришел целовать коров,
Слушать сердцем овсяный хруст.
Глубже, глубже, серпы стихов!
Сыпь черемухой, солнце-куст!
(Кобыльи корабли. Отрывок. Сентябрь 1919)
Интересно? Поделитесь информацией!
About Тина Гай
Статьи на эту же тему


Мартирос Сарьян. Окончание

Павел Зальцман: осколки Серебряного века


Кнут Гамсун — двойник Мунка. Часть 1

Террор: красный, розовый, зеленый, белый
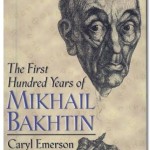


Князь Голицын – царский шут

6 Responses to Великий русский поэт Сергей Есенин
Конечно, воспоминания о любом человеке разные, но мне всегда претит когда о великом человеке говорят только сладкое, превращающие человека в ходячую мумию или праведника. Я люблю Ахматовские:
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда.
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене…
И стих уже звучит, задорен, нежен.
На радость всем и мне.
Из опыта, в том числе и неудачного, и спорного, и не всегда красивого с точки зрения «праведников», вырастает настоящая поэзия. И в этом Мариенгоф, как поэт, прав, бесконечно прав. И именно так я воспринимаю его «Роман без вранья». Ахматова выразила это короче, но она писала вообще о стихах, а здесь — конкретный живой человек. Очень нежный, ранимый, тщеславный, любвеобильный…. Я его люблю всяким. Он был настоящим поэтом…
Сергей Александрович является одним из любимейших поэтов… интересно было почитать воспоминания Анатолия Мариенгофа, но все же… все что написано-рассказано со слов… Мариенгофа… и поступки которые совершал Есенин описаны со стороны Мариенгофа, т.е. так как он их понимал, а не Есенин… я знакомился с Есениным по его стихам… они у него разные и в них можно найти все…
«Роман без вранья», когда он вышел ругали многие. Но здесь надо понимать эстетику Мариенгофа, считавший, что нет чистого без нечистого, все мы живые… А кроме того, сам Есенин дает образ «окаянной» России, России кабацкой, юродивой, разгульной и тюремной, без которой нет Святой Руси. Вот эта книга и есть в некотором смысле такой образ русского поэта, в котором совмещается роза белая и черна жаба
Дар поэта – ласкать и карябать,
Роковая на нем печать
Розу белую с черною жабой
Я хотел на земле повенчать…
Да, со мной произошло то же самое: я почувствовала его изнутри.
Спасибо за подписку!
Впервые читаю эти мемуары. Признаюсь-немного не по себе…
Здравствуйте, Тина! Подписалась на Ваш блог. Некоторые мысли созвучны. А Есенин стал ближе именно после «Романа без вранья.»