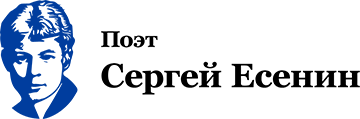Тема животных в произведениях С
24.01.2018Сергей есенин даты жизни
24.01.2018СОФЬЯ ТОЛСТАЯ — ЖЕНА СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА
Недолгим было счастье Софьи Андреевны Толстой-Есениной — жены Сергея Александровича Есенина. Они встретились в начале 1925 года, а 28 декабря 1925 года трагически оборвалась жизнь поэта.
После распада семьи Ольга Константиновна Толстая увезла Соню в Англию. Жили в семье В. Г. Черткова, которого в 1897 году выслали из России за распространение запрещенных сочинений Л. Н. Толстого. Софья Толстая получила хорошее домашнее образование, много читала, писала стихи, знала английский и французский языки. Позже С. А. Толстая-младшая вспоминала: «Первые четыре года жизни я провела в Ясной Поляне. Постоянно видела деда, но, уехав в Англию, не сохранила о нем никакого ясного воспоминания. От окружающих начинала понимать, что мой дедушка — это что-то замечательно хорошее и большое, но что именно и чем он такой особенно хороший, не знала. Восьми лет я прочла «Кавказский пленник». Во всю свою последующую жизнь ни одной книги я не читала с таким огромным восторгом. Я знала его почти наизусть. Это было невероятно сильное наслажденье, вернее пробужденье. В октябре 1908 года мы вернулись в Россию».
Лев Толстой в завещании лишил членов семьи доходов от издания своих сочинений. Все гонорары должны были стать, по его воле, всенародным достоянием. Официальными наследниками он назначил свою любимую дочь Александру Львовну Толстую, а в случае ее смерти Татьяну Львовну Сухотину-Толстую. Лев Толстой был уверен, что только ими его воля будет исполнена.
 В 1914 году Софья Толстая поступила в 5-й класс женской гимназии А. С. Алферовой и закончила её весной 1918 года. Осенью 1918 года С. А. Толстая поступила на службу в канцелярию Правления Общества Потребителей «Кооперация». Революция поставила семью Толстых на грань бедности. У Софьи Толстой открылся туберкулезный процесс. Пришлось бросить службу, переехать в Ясную Поляну для лечения. В 1920 году Софья поступила в Московский государственный университет на факультет общественных наук, но из-за материальных трудностей и состояния здоровья не смогла продолжать обучение. Некоторое время служила в Главном управлении кустарной промышленности, затем была безработной.
В 1914 году Софья Толстая поступила в 5-й класс женской гимназии А. С. Алферовой и закончила её весной 1918 года. Осенью 1918 года С. А. Толстая поступила на службу в канцелярию Правления Общества Потребителей «Кооперация». Революция поставила семью Толстых на грань бедности. У Софьи Толстой открылся туберкулезный процесс. Пришлось бросить службу, переехать в Ясную Поляну для лечения. В 1920 году Софья поступила в Московский государственный университет на факультет общественных наук, но из-за материальных трудностей и состояния здоровья не смогла продолжать обучение. Некоторое время служила в Главном управлении кустарной промышленности, затем была безработной.
Брак С. М. Сухотина с Софьей Андреевной был непродолжительным. Уже после распада семьи у Софьи Андреевны родилась дочь Наташа, которую стала воспитывать бабушка. В январе 1922 года С. М. Сухотин тяжело заболел, вынужден был уехать на лечение за границу. Из публикаций в газетах узнал о браке Софьи Толстой с Сергеем Есениным, но этой информации не поверил. В 1926 году Сергей Сухотин умер. О его смерти Софья Андреевна узнала во время отдыха в Крыму. « Недавно получила известье, что умер отец Наташки, — писала она подруге. — От нескольких ударов. Странно, дорогая, узнать, что ушел отсюда и так и где-то человек, который ведь был когда-то моим мужем, всем в жизни и которому очень много отдала я и для которого была на всем свете я одна».
В 1923 году Софья Толстая поступила в Государственный институт Живого Слова на литературное отделение.
 Впервые С. А. Толстая слышала выступление С. Есенина во второй половине 1921 года в кафе «Стойло Пегаса». Она пришла с друзьями п о пропуску, написанному рукой С. Есенина: «Вход оплачен на четыре л ица. С.Е.» «В 1921 году я была с друзьями в «Стойле Пегаса», — вспоминала С. А. Толстая, — Там выступал Есенин. Меня поразило его чтение, и я очень хорошо его запомнила. Но мы не познакомились тогда. Уже после его смерти, в своих старых бумагах я нашла эт от пропуск на тот вечер, и узнала почерк Есенина». Об этом вечере С. А. Толстая рассказала позже Ю. Л. Прокушеву: «Однажды я была со своими литературными друзьями в «Стойле Пегаса». Тогда об этом литературном кафе имажинистов много говорили. Вот мы и решили как-то под вечер отправиться туда. Нам явно повезло: вскоре после нашего прихода стихи начал читать Есенин. О Есенине, вокруг имени которого уже в те годы стали складываться самые разноречивые «легенды», я слышала до этого. Попадались мне и отдельные его стихи. Но видела я Есенина впервые. Какие он тогда читал стихи, мне трудно сейчас вспомнить. Да и не хочу я фантазирова ть. К чему это? Память моя навсегда сохраняет с той поры другое: предельную обнаженность души Есенина, незащищенность его сердца… После «Стойла Пегаса» мне довелось ещё несколько раз слышать выступления Есенина, читать в журналах его стихи, статьи о нем. Но личное моё знакомство с ним произошло позднее…»
Впервые С. А. Толстая слышала выступление С. Есенина во второй половине 1921 года в кафе «Стойло Пегаса». Она пришла с друзьями п о пропуску, написанному рукой С. Есенина: «Вход оплачен на четыре л ица. С.Е.» «В 1921 году я была с друзьями в «Стойле Пегаса», — вспоминала С. А. Толстая, — Там выступал Есенин. Меня поразило его чтение, и я очень хорошо его запомнила. Но мы не познакомились тогда. Уже после его смерти, в своих старых бумагах я нашла эт от пропуск на тот вечер, и узнала почерк Есенина». Об этом вечере С. А. Толстая рассказала позже Ю. Л. Прокушеву: «Однажды я была со своими литературными друзьями в «Стойле Пегаса». Тогда об этом литературном кафе имажинистов много говорили. Вот мы и решили как-то под вечер отправиться туда. Нам явно повезло: вскоре после нашего прихода стихи начал читать Есенин. О Есенине, вокруг имени которого уже в те годы стали складываться самые разноречивые «легенды», я слышала до этого. Попадались мне и отдельные его стихи. Но видела я Есенина впервые. Какие он тогда читал стихи, мне трудно сейчас вспомнить. Да и не хочу я фантазирова ть. К чему это? Память моя навсегда сохраняет с той поры другое: предельную обнаженность души Есенина, незащищенность его сердца… После «Стойла Пегаса» мне довелось ещё несколько раз слышать выступления Есенина, читать в журналах его стихи, статьи о нем. Но личное моё знакомство с ним произошло позднее…»
Ошибочно указывалось в некоторых источниках, что Софья Толстая встрет илась с Сергеем Есениным 5 марта 1925 года на вечере, устроенном в день рождения Галины Бениславской, близкого друга Сергея Есенина. Основанием для этой даты послужили воспоминания поэта В. Ф . Наседкина, который в то время ухаживал за сестрой Есенина Екатериной и чуть ли не ежедневно встречался с Сергеем Есениным: «Круг знакомых, в котором Есенин вращался в то время, небольшой, преимущественно писательский. На вечеринке, устроенной в день рождения Гали, он познакомился с Софьей Андреевной Сухотиной (урожденной Толстой), пришедшей с Б. Пильняком и М. Шкапской. Часам к 12 вечера Есенин был пьян, но держался хорошо. Наибольшее внимание за этот вечер он уделял своей новой знакомой».
Однако Сергей Есенин 6 марта 1925 года писал своему другу Н. К. Вержбицкому на Кавказ: «Вчера была домашняя пирушка: Пильняк, Воронски й, Ионов, Флеровский, Березина, Наседкин, я и сестра. Нарезались в доску. Больше всего, конечно, мы с Ионовым…» Трудно предположить, что С. Есенин забыл упомянуть в перечне приглашенных гостей Софью Андреевну Толстую. Её там не было.
В с ообщении младшей сестры поэта о первой встрече С. Есенина и С. Толстой указанная условная дата также вызывает сомнения. «Сергей, Галя и я встречали новый 1925 год у одного богатого нэпмана, — вспоминала А. А. Есенина. — Я была самой молодой и мне было очень невесело. На этом  вечере я познакомилась с ленинградской поэтессой Марией Шкапской. Несколько дней спустя Шкапская позвонила мне по телефону и изъявила свое желание видеть меня, т.е. зайти к нам с очень хорошей своей приятельницей Софьей Андреевной Толстой. У нас был тихий, приятный вечер. Сергей, Галя и я, и никого из чужих. Желание Шкапской меня очень смутило, и когда я вошла в комнату спросить: можно ли зайти к нам Шкапской? — Сергей и Галя поняли мое положение и, улыбнувшись, согласились принять. Шкапская пришла с молодой женщиной. Женщина была высокого роста, некрасивая, но приятная. Это и была приятельница Шкапской Софья Андреевна Толстая. Внучка Льва Николаевича Толстого. Вечер закончился так же хорошо, как и начался. Сергей пошел провожать наших гостей, и мы с Галей решили, что Толстая очень приятная женщина. Вернувшись, Сергей согласился с нами и, улыбнувшись, добавил: «Надо поволочиться. Пильняк за ней ухаживает, а я отобью».
вечере я познакомилась с ленинградской поэтессой Марией Шкапской. Несколько дней спустя Шкапская позвонила мне по телефону и изъявила свое желание видеть меня, т.е. зайти к нам с очень хорошей своей приятельницей Софьей Андреевной Толстой. У нас был тихий, приятный вечер. Сергей, Галя и я, и никого из чужих. Желание Шкапской меня очень смутило, и когда я вошла в комнату спросить: можно ли зайти к нам Шкапской? — Сергей и Галя поняли мое положение и, улыбнувшись, согласились принять. Шкапская пришла с молодой женщиной. Женщина была высокого роста, некрасивая, но приятная. Это и была приятельница Шкапской Софья Андреевна Толстая. Внучка Льва Николаевича Толстого. Вечер закончился так же хорошо, как и начался. Сергей пошел провожать наших гостей, и мы с Галей решили, что Толстая очень приятная женщина. Вернувшись, Сергей согласился с нами и, улыбнувшись, добавил: «Надо поволочиться. Пильняк за ней ухаживает, а я отобью».
Эти записи были сделаны значительно позже описываемых событий, поэтому память могла и подвести при определении даты. Позабылись и нек оторые имена присутствовавших на вечере. Галина Бениславская крестилась 8 марта 1898 года. Свои крестины она отмечала в кругу близких друзей. И на этот раз в понедельник 9 марта в гости были приглашены Всеволод Иванов, Виктор Ключарев, Илья Ионов, Василий Казин, Мария Шкапская, Борис Пильняк, Софья Толстая и др. На этом вечере и состоялась первая встреча С. Есенина с С. А. Толстой, о чем свидетельствует запись Софьи Андреевны в её настольном календаре 1925 года: «9 марта. Первая встреча с Есениным».
В 50-е годы С. А. Толстая рассказывала Ю. Прокушеву: «На квартире у Гали Бениславской, в Брюсовском переулке, где одно время жили Есенин и его сестра Катя, как-то собрались писатели, друзья и товарищи Сергея и Гали. Был приглашен и Борис Пильняк, вместе с ним пришла я. Нас познакомили. Пильняку куда-то надо было попасть еще в тот вечер, и он ушел раньше. Я же осталась. Засидели сь мы допоздна. Чувствовала я себя весь вечер как-то особенно радостно и легко. Мы разговорились с Галей Бениславской и с сестрой Сергея Катей. Наконец я стала собираться. Было очень поздно. Решили, что Есенин пойдет меня провожать. Мы вышли с ним вместе н а улицу и долго бродили по ночной Москве… Эта встреча и решила мою судьбу…».
Неизвестно, о чем шел разговор во время проводов С. Толстой, но будущая жизнь внучки великого русского писателя сильно изменилась. После первого свидания С. Есенин предложил Софье Андреевне, как обычно говорят в таких случаях, руку и сердце. Можно удивляться не тому, что Есенин так быстро пошел на столь ответственный шаг, а тому, что Софья Толстая быстро дала согласие стать его невестой.
 Пикантност ь ситуации в том, что в начале марта у Софьи Андреевны начался роман с писателем Борисом Пильняком. В календаре 4 марта 1925 года она сделала небольшую пометку после одного вечера, на котором присутствовал Пильняк в кругу молодых поэтесс: «Начало романа с Пильняком». После встречи с Есениным всё резко изменилось. Соня не могла не поверить искренности чувств Сергея.
Пикантност ь ситуации в том, что в начале марта у Софьи Андреевны начался роман с писателем Борисом Пильняком. В календаре 4 марта 1925 года она сделала небольшую пометку после одного вечера, на котором присутствовал Пильняк в кругу молодых поэтесс: «Начало романа с Пильняком». После встречи с Есениным всё резко изменилось. Соня не могла не поверить искренности чувств Сергея.
10 марта С. Толстая была в гостях у поэта и прозаика Андрея Белого, а затем с ленинградской поэтессой Марией Шкапской присутствовала на спектакле «Блоха», пьесе Е. Замятина по повести Н. С. Лескова. Вечером же опять в гостях у Есенина. Её тянуло к нему, она ничего не могла с собой поделать. В настольном календаре появилась запись «К Есенину». Запись краткая, но символическая.
Возможно, что Анна Абрамовна Берзинь, в то время опекавшая Сергея Есенина, описала именно эту вечеринку: «…мне позвонил Серге й Александрович и пьяным голосом просил непременно к нему прийти. Он жил тогда в Брюсовском переулке вместе с Галиной Бениславской, сестрами Шурой и Катей. Мне не хотелось идти к ним: было уже поздно, да к тому же нетрезвый голос Сергея… Через несколько минут опять звонок, и опять Есенин просит прийти и, как всегда, когда он пьян, начинает прикидываться, что его обижают и что им пренебрегают: «Я за тобой приползу. Пойми, что я женюсь и тут моя невеста»… — Какая невеста? — спрашиваю я, удивленная и встревоженная его новыми выдумками. — Толстая Софья Андреевна! — говорит он торжествующе.
Я не знала тогда, что внучку Льва Николаевича звали, как и бабушку, Софья Андреевна, и потому, смеясь, ответила: — А Льва Николаевича там нет? Сергей что-то бормочет, трубку берет Галя Бениславская и разъясняет, что действительно у них в гостях Софья Андреевна Толста я, поясняет, кто она, и просит непременно прийти. Поднимаясь к дверям квартиры, в которой жили Есенины и Бениславская, я слышу, как играют баянисты. Их пригласил Сергей Александрович из театра Мейерхольда. Знаменитое трио баянистов. В маленькой комнате и без того тесно, а тут три баяна наполняют душный, спёртый воздух мелодией, которую слушать вблизи трудно. Баянисты, видимо, «переложили» тоже и потому стараются во всю, широко разводя мехи. Рёв и стон. За столом сидят Галина, Вася Наседкин, Борис Андреевич Пильняк, двоюродный брат Сергея, который ходит за ним по пятам, незнакомая женщина, оказавшаяся Толстой, сестры Сергея. Сам он пьяный, беспорядочно суетливый, улыбающийся. Он усаживает меня между Пильняком и Софьей Андреевной. Сам садится на диван и с торжеством смотрит на меня.
Галина Артуровна то и дело встаёт и выходит по хозяйским делам на кухню. Она вся в движении. Шура, Катя, Сергей поют под баяны, но Сергей поёт с перерывами, смолкая, он бессильно откидывается на спинку дивана, опять выпрямляется и опять поёт. Лицо у него бледное, губы он закусывает — это показывает очень сильную степень о пьянения.
Я поворачиваюсь к Софье Андреевне и спрашиваю:
— Вы действительно собираетесь за него замуж?
Она очен ь спокойна, её не шокирует гам, царящий в комнате.
— Да, у нас вопрос решен, — отвечает она и прямо смотрит на меня.
— Вы же видите, он совсем невменяемый. Разве ему время жениться, его в больницу надо положить. Лечить его надо.
— Я уверена, — отвечает Софья Андреевна, — что мне удастся удержать его от пьянства.
— Вы давно его знаете? — задаю я опять вопрос.
— А разве это играет какую-нибудь роль? — Глаза её глядят несколько недоуменно. — Разве надо обязательно долго знать человека, чтобы полюбить его?
— Полюбить, — тяну я, — ладно полюбить, а вот выйти замуж — это другое дело…
Она слег ка пожимает плечами, потом встает и подходит к откинувшемуся на спинку дивана Сергею. Она наклоняется и нежно проводит рукой по его лбу. Он, не открывая глаз, отстраняет её руку и что-то бормочет. Она опять проводит рукой по его лбу, и он, открыв глаза, зло смотрит на неё, опять отбрасывает руку и добавляет нецензурную фразу.
Она спокойно отходит от него и садится на свое место как ни в чем не бывало.
— Вот ви дите, разве можно за него замуж идти, если он невесту материт, — говорю я.
И она опять спокойно отвечает:
— Он очень сильно пьян и не понимает, что делает.
— А он редко бывает трезвым…
— Ничего, он перестанет пить, я в этом уверена. — Она действительно, кажется, в этом уверена.»
Анна Берзинь могла и не знать в то время, что между Есениным и Бениславской, которую поэт до этого представлял друзьям как свою гражданскую жену, произошел разрыв, а встреча поэта с Софьей Толстой окончательно разорвала его интимную связь с Галиной.
В дальнейшем Сергей Есенин и Софья Толстая стали часто встречаться. Это позволяло им поближе узнать друг друга.
Какой была в ту пору С. А. Толстая? Об этом можно судить по воспоминаниям современников. «В 1925 году Софье Андреевне было двадцать пять лет, — писала А. А. Есенина, — Выше среднего роста, немного сутуловатая, с небольшими серовато-голубыми глазами под нависшими бровями, она очень походила на своего дедушку — Льва Николаевича, властная, резкая в гневе и мило улыбающаяся, сентиментальная в хорошем настроении.
«Душка», «душенька», «миленькая» были излюбленными ее словами и употреблялись ею часто, но не всегда искренне». Образно и тепло охарактеризовал С. А. Толстую писатель Ю. Н. Либединский: «В облике этой девушки, в округлости ее лица и проницательно умном взгляде небольших, очень толстовских глаз, в медлительных манерах сказывалась кровь Льва Николаевича. В ее немногословных речах чувствовался ум, образованность, а когда она взглядывала на Сергея, нежная забота светилась в ее серых глазах. Она, видимо, чувствовала себя внучкой Софьи Андреевны Толстой. Нетрудно догадаться, что в ее столь явной любви к Сергею присутствовало благородное намерение стать помощницей, другом и опорой писателя».
В ночь с 18 на 19 марта 1925 года Сергей Есенин вместе с поэтом Иваном Приблудным посетили квартиру С. А. Толстой. Об этой встрече Софья Андреевна сделала запись в настольном календаре: «18 марта. Среда. День Парижской Коммуны. (…) Есенин и Приблудный с 1 часа ночи до 4 ½». Позже С. А. Толстая дописала: «Есенин и Приблудный с 1 часа ночи до 4 ½ дня. Есенин впервые после возвращения с Кавказа». Свои впечатления об этом визите поэтов С. Толстая изложила в письме М. М. Шкапской. Письмо не сохранилось, но о его содержании можно догадаться по тексту ответного письма М. Шкапской от 27 марта 1925 года: «Я точно вижу Вас и Сергея в этой утренней комнате, и ах, Соня, милая, как дорога мне вся эта противоречивость человеческая — «обещала верность другому» — а сама вся в огненном кольце: — пьяница и скандалист — и потом милая улыбка и взмах золотой головой: «Обещалось — так нужно держаться».
Под впечатлением этой встречи 19 марта Сергей Есенин в альбоме С. Толстой записал экспромтом сочиненный текст:
Никогда не забуду я ночи,
Ваш прищур, цилиндр мой и диван,
И как в вас телячьи пучил очи
Всем знакомый Ванька и Иван.
Никогда над жизнью не грустите.
У неё корявых много лап.
И меня, пожалуйста, простите
За ночной приблудный пьяный храп.
Встречи С. Есенина и С. Толстой не могли не привлечь внимания Б. Пильняка. Но С. Есенин убеждал его: «Ты её люби. Она тебе верна. Я с ней всю ночь провел, и ничего не было». Б. Пильняк ежедневно, а порой и несколько раз в день, звонил Соне, которая писала М. Шкапской: «…Происходил такой разговор: «Поедем туда… поедем сюда… Приезжай ко мне, у меня собираются… Я приеду к тебе…». Я: «Занята. Устала. Не буду дома. Не могу, не могу…». Встречи с Есениным продолжались, роман Сони с Пильняком рушился на глазах. Перед напором чувств Есенина трудно было устоять. М. Шкапская считала, что у Сони с Есениным увлечение кратковременное, поэтому писала, что «не радоваться чужой любви не могу — она такая буйная, грозовая — знаете, дорогая, так вот только и могут любить Есенины — и подобные им — непочатые, от земли (что их трепало жизнью — ничего, а у них зато кровь неразбавленная)»
С. Есенин упоминает о С. Толстой 20 марта 1925 года в письме грузинскому поэту Т. Ю. Табидзе: «В эту весну в Тифлисе, вероятно, будет целый съезд москвичей. Собирается Качалов, Пильняк, Толстая и Вс. Иванов. Бабель приедет раньше…». О предполагаемой поездке писателей и артистов на Кавказ С. Есенину могла сообщить Софья Андреевна. На Кавказ собирался уехать и Сергей Есенин.
26 марта Софья Толстая присутствовала на прощальном вечере Сергея Есенина, состоявшемся на квартире Галины Бениславской перед отъездом поэта на Кавказ. «Дорогая, представьте себе такую картину, — писала С. А. Толстая в Ленинград М. Шкапской, — Вы помните эту белую длинную комнату, яркий электрический свет, на столе груды хлеба с колбасой, водка, вино. На диване в ряд, с серьезными лицами — три гармониста — играют все — много, громко и прекрасно. Людей немного. Всё пьяно. Стены качаются, что-то стучит в голове. (…) Сижу на диване и на коленях у меня пьяная, золотая, милая голова. Руки целует, и такие слова — нежные и трогательные. А потом вскочит и начинает плясать. Вы знаете, когда он становился и вскидывал голову — можете ли Вы себе представить, что Сергей был почти прекрасен. Милая, милая, если бы Вы знали, как я глаза свои тушила! А потом опять ко мне бросался. И так всю ночь. Но ни разу ни одного нехорошего жеста, ни одного поцелуя. А ведь пьяный и желающий. Ну, скажите, что он удивительный!».
Этот же вечер у С. Толстой оказался прощальным и с Б. Пильняком, который пошел провожать её домой. Софье Андреевне пришлось в последний раз пройти проверку своих чувств. Она откровенничала в письме М. Шкапской: «Не забуду, как мы с лестницы сходили — под руку, молча, во мраке, как с похорон. Что впереди? Знаю, что что-то страшное. А сзади, сейчас, вот за этой захлопнутой дверью, оборвалась очень коротенькая, но очень дорогая страничка. На извозчике — о посторонних вещах, и так далек, далек. Ко мне — ни за что. И тут на меня напал такой ужас. Еду и думаю — не пойдет — конец — а без него не могу. Голова с вина дикая и мысли острые, острые. Вот поднимусь на балкон — и кинусь. Вероятно, он почуял что-то. Пошел ко мне. Шепотом, чтобы мать не услыхала, говорили, зная, что слова, что главного нельзя сказать, потому что сами не знаем. А главное, что говорили, вот: думал, что у нас с Сергеем было больше, чем целовались и т.д. Потом его подзуживали разговоры обо мне и Сергее присутствовавшие, главным образом Галя Бениславская. Потом, что я «иконка». А с женщиной мне в пику. Много, долго, мучительно и как-то тупо, потому что может быть непрошибимее мужской ревности. А потом пришла большая, изломанная, но настоящая страсть и как будто стерла всё недоговоренное. А на другой день ещё хуже. Пришел такой несчастный, измученный. Сказал, что уезжает. Должен наедине решить — может ли он мне быть мужем или любовником, или просто другом будет. Марья Михайловна, как я прожила эти 5 дней — не знаю. Ходила, как перед постригом. А вернулся — сказал, что не уйдет. Опять я на жизнь глаза открыла. Вы простите, если Вам скучно, что я пишу. Эти несколько суток для меня прошли, как года, и потому не могла не сказать о них».
В дальнейшем, возможно, по инициативе самого Б. Пильняка, стали распускаться слухи, что внучка Толстого просто надоела Пильняку, что он был рад ухаживанию за ней Есенина. Острая на язык, к тому же и влюбленная в Есенина, Анна Абрамовна Берзинь, присутствовавшая на проводах поэта, вспоминала:
«Галя наливает стакан водки и подает Сергею, он приподнимается и шарит по столу. Катя и я киваем: пусть уж напьется и сразу уснет, чем будет безобразничать и ругаться. Сергей Александрович выпивает водку и валится на диван.
— Пойдемте, — говорю я и, повернувшись к Пильняку, добавляю: — Вы проводите Софью Андреевну, ведь уже поздно.
За очками поблескивают хитрые и насмешливые глаза. Я отвожу взгляд, а он, пригнувшись к моему уху, говорит достаточно громко, чтобы слышала Софья Андреевна:
— Я пойду провожать вас, а её пусть кто угодно провожает. Целованных и чужих любовниц не провожаю…
Я растерянно поднимаюсь из-за стола и, взяв Бениславскую за руку, выхожу с ней в коридор.
— В чем дело, Галя, я ничего не понимаю…
У неё жалкая улыбка.
— Что ж тут не понимать? Сергей собирается жениться. Он же сказал тебе об этом…
— Ты же знаешь, что Сергей болен, какая же тут свадьба?
Она устало машет рукой, и в её глазах я вижу боль и муку:
— Пусть женится, не отговаривай, может быть, она поможет, и он перестанет пить…
— Ты в это веришь, Галя?
Она утвердительно кивает головой.
В коридор выходят остальные. Только трое баянистов продолжают раздирать квартиру песнями. Сергей под их музыку спит, откинув голову. Лицо его бледно, губы закушены.
Старая Галя провожает нас до двери. С Софьей Андреевной идет, кажется, брат Сергея.
Пильняк дорогой открывает тайны. Софья Андреевна жила с ним, а теперь вот выходит за Сергея. Он говорит об этом, а за очками поблескивают его насмешливые глаза.
Мне ни о чем говорить не хочется.
Зачем это делает Сергей — понять нельзя. Ясно, что он не любит, иначе он прожужжал бы все уши, рассказывая о своем увлечении. Впрочем, об этом он говорит только тогда, когда пьян, но я третьего дня видела его пьяным, он ничего не говорил о своей женитьбе».
Не все одобряли роман Сергея Есенина и Софьи Толстой. «Не знаю почему, Сонюшка, милая, но не лежит у меня душа к Есенину, — писала С. Толстой в это время из Ленинграда М. Шкапская, — как-то больно и нехорошо от мысли, что Вы как-то связаны с ним. Или это вина моей неизжитой романтики, но я как-то очень хорошо поняла и оценила стихийность чувства Вашего и Пильняка, — и то, что тут как-то третьим вплелся Есенин — было обидно и больно. Есенина как человека — нужно все-таки бежать, потому что это уже нечто окончательно и бесповоротно погибшее, — не в моральном смысле, а вообще в человеческом, (…) потому что уже продана душа чёрту, уже за талант отдан человек, — это как страшный нарост, нарыв, который всё сглодал и всё загубил. (…) Сергей Есенин — талантлище необъятный, песенная стихия, — но он так бесконечно ограничен»
27 марта С. Есенин выехал на Кавказ. С. Толстая записала в своем календаре: «Уехал Сергей Есенин».
30 марта 1925 года поэт приехал в Баку и уже в первом письме в Москву 8 апреля 1925 года просит Г. Бениславскую: «Позвоните Толстой, что я её помню». Выполняя просьбу С. Есенина, Галина позвонила 23 апреля 1925 года на квартиру Толстой, но Софья Андреевна в это время находилась в Ясной Поляне. В начале мая 1925 года С. Есенин вновь напоминает Галине Артуровне: «Позвоните Толстой, пусть напишет».
Софья Толстая отмалчивалась, она была занята завершением учебы в вузе. 19 мая 1925 года сдает зачет по курсу «Театроведение», 20 мая — по «Поэтике», 22 мая — «Итальянская литература» и «Современный театр». Успешно защищает выпускную работу, которая была посвящена литературоведческому анализу романа Бориса Пильняка «Голый год». В это же время Соня временно устроилась на работу машинисткой в Государственном музее Л. Н. Толстого. Нужно было зарабатывать на хлеб насущный.
С. Есенин возвращается в Москву 28 мая 1925 года и на следующий день встречается с Софьей Андреевной на её квартире. В календаре появилась запись С. Толстой: «29 мая. Пятница. (…) Ночевал Сергей Есенин… Есенин вернулся с Кавказа». Теперь имя Есенина стало регулярно встречаться на листках настольного календаря.
«Помню, как еще в начале нашего знакомства, — рассказывала позже С. А. Толстая, — приехав с Кавказа, он пришел ко мне с Иваном Приблудным, принес свои «Персидские мотивы» и читал их всю ночь. Я безумно люблю «Персидские мотивы» Сергея. Когда они вышли отдельным изданием, он мне их подарил с таким веселым, озорным частушечным автографом
не дружись с Есениным.
Любись с Сережей.
1 июня Сергей пришел к Соне с четвертым номером журнала «Красная новь», еще пахнувшим типографской краской. Раскрыл журнал и начал читать:
Село, значит, наше – Радово,
Дворов почитай – два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места…
И прочитал…. всю поэму. С. Толстая вспоминала: « Я сидела, не шелохнувшись. Как он читал! А когда кончил, передавая журнал, сказал, улыбаясь: «Это тебе за твое терпение и за то, что ты хорошо слушала». Я открыла журнал. На странице, где поэма кончалась, вверху рукой Есенина было написано: «Милой Соне С. Есенин. 1 июня 25 Москва».
Софья Андреевна часто становится первой слушательницей новых произведений С. Есенина. Поэт говорил в таких случаях: «Хочу вам прочитать новую вещь». Возвратившись из Баку, он рассказывал ей об изменениях в общественной жизни страны, очевидцем которых был. В газете «Бакинский рабочий» 25 мая 1925 года С. Есенин опубликовал стихотворение «Неуютная жидкая лунность…», в котором раскрыл преимущество городской культуры перед деревенской патриархальностью. Поэт предсказывал индустриальное развитие страны:
Равнодушен я стал к лачугам,
И очажный огонь мне не мил.
Даже яблонь весеннюю вьюгу
Я за бедность полей разлюбил.
И в чахоточном свете луны
Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной стороны.
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
И березам и тополям.
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и всё же хочу я стальную
Видеть бедную, нищею Русь.
В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз,
Ни за что я теперь не желаю
Слушать песню тележных колес.
«Хорошо помню, — вспоминала Софья Андреевна, — как я была удивлена, когда впервые услышала от Сергея его стихотворение «Неуютная лунная жидкость…», особенно последние три заключительных строфы. Да, подумала я тогда, как далеко и вместе с тем, казалось бы, совсем неожиданно для него заглядывает Сергей в стальное будущее Росси. Вот тебе и «последний поэт деревни».
Сделав предложение Соне, Есенин и не предполагал, что для регистрации брака нужно сначала преодолеть различные юридические препоны. С. Есенин еще состоял в браке с Айседорой Дункан, которая без оформления развода в 1924 году уехала из России в Париж. В браке с Сухотиным, который лечился за границей, была и С. Толстая.
Нужно было разобраться и в своих чувствах. С. Есенин понимал, что его новый брак не останется вне общественного внимания. Он начинает обсуждать с близкими друзьями серьезно, а порой и шутливо, свою будущую женитьбу.
«Едва ли не с начала моего знакомства с Есениным шли разговоры о том, что он женится на Софье Андреевне Толстой, внучке писателя Льва Толстого, — вспоминал Ю. Н. Либединский. — Сергей и сам заговаривал об этом, но по своей манере придавал этому разговору шуточный характер, вслух прикидывая: каково это будет, если он женится на внучке Льва Толстого! Но что-то очень серьезное чувствовалось за этими как будто бы шуточными речами».
Рюрик Ивнев подробно описал, как С. Есенин в шутливой форме обсуждал с ним выбор будущей новой жены:
«Как-то раз при одной из встреч он с таинственным видом отвел меня в сторону (это было на Тверском бульваре), выбрал свободную скамейку на боковой аллее и, усадив рядом с собой, сказал:
— Ты должен дать мне один совет, очень… очень важный для меня.
— Ты же никогда ничьих советов не слушаешь и не исполняешь!
— А твой послушаю. Понимаешь, всё это так важно. А ты сможешь мне правильно ответить. Тебе я доверяю.
Я прекрасно понимал, что если Есенин на этот раз не шутит, то, во всяком случае, это полушутка… Есенин чувствовал, что не принимаю всерьез его таинственность, но ему страшно хотелось, чтобы я отнесся серьезно к его просьбе — дать ему совет.
— Ну, хорошо, говори, — сказал я, — обещаю дать тебе совет.
— Видишь ли, — начал издалека Есенин. — В жизни каждого человека бывает момент, когда он решается на… как бы это сказать, ну, на один шаг, имеющий самое большое значение в жизни. И вот сейчас у меня… такой момент. Ты знаешь, что с Айседорой я разошелся. Знаю, что в душе осуждаешь меня, считаешь, что во всем я виноват, а не она.
— Я ничего не считаю и никогда не вмешиваюсь в семейные дела друзей.
— Ну хорошо, хорошо, не буду. Не в этом главное.
— В том, что я решил жениться. И вот ты должен дать мне совет, на ком.
— Это похоже на анекдот.
— Нет, нет, ты подожди. Я же не досказал. Я же не дурачок, чтобы просить тебя найти мне невесту. Невест я уже нашел.
— Нет, двух. И вот из этих двух ты должен выбрать одну.
— Милый мой, это опять-таки похоже на анекдот.
— Совсем не похоже… — рассердился или сделал вид, что сердится, Есенин. — Скажи откровенно, что звучит лучше: Есенин и Толстая или Есенин и Шаляпина?
— Я тебя не понимаю.
— Сейчас поймешь. Я познакомился с внучкой Льва Толстого и с племянницей Шаляпина. Обе, мне кажется, согласятся, если я сделаю предложение, и я хочу от тебя услышать совет, на которой из них мне остановить выбор?
— А тебе разве все равно, на какой? — спросил я с деланным удивлением, понимая, что это шутка.
Но Есенину так хотелось, чтобы я сделал хотя бы вид, что верю в серьезность вопроса. Не знаю, разгадал ли мои мысли Есенин, но он продолжал разговор, стараясь быть вполне серьезным.
— Дело не в том, все равно или не все равно… Главное в том, что я хочу знать, какое имя звучит более громко.
— В таком случае я должен тебе сказать вполне откровенно, что оба имени звучат громко.
— Не могу же я жениться на двух именах!
— Тогда как же мне быть?
— Не жениться совсем.
— Нет, я должен жениться.
— Тогда сам выбирай.
— Не не хочу, а не могу. Я сказал свое мнение: оба имени звучат громко.
Есенин с досадой махнул рукой. А через несколько секунд он расхохотался и сказал:
— Тебя никак не проведешь! — И после паузы добавил: — Вот что, Рюрик. Я женюсь на Софье Андреевне Толстой.
В скором времени состоялся брак Есенина с С. А. Толстой».
Разумеется, такие разговоры были редки. С. Есенин понимал серьезность своих намерений. Очень верно это подметил писатель Н. Н. Никитин: «Но встреча с замечательным человеком, С. А. Толстой, была для Есенина не «проходным» явлением. Любовь Софьи Андреевны к Есенину была нелегкой. Вообще это его последнее сближение было иным, чем его более ранние связи, включая и его роман с Айседорой Дункан. Однажды он сказал мне:
— Сейчас с Соней другое. Совсем не то, что прежде, когда повесничал и хулиганил…
Он махнул рукой, промолчал.
С. А. Толстая была истинная внучка своего деда. Даже обликом своим поразительно напоминала Льва Николаевича. Она была человеком широким, вдумчивым, серьезным, иногда противоречивым, умела пошутить, всегда с толстовской меткостью и остротой разбиралась в людях.
Я понимаю, что привлекло Есенина, уже уставшего от своей мятежной и бесшабашной жизни, к Софье Андреевне. Это были действительно уже иные дни, иной период его биографии. В этот период он стремился к иной жизни».
7 июня 1925 года С. Есенин выезжал с друзьями в Константиново на свадьбу двоюродного брата А. Ф. Ерошина. «До этой поездки я, как и все, знавшие Есенина, считал его за человека сравнительно здорового, — писал В. Ф. Наседкин. — Но здесь, в деревне, он был совершенно невменяем. Его причуды принимали тяжелые и явно нездоровые формы.
Через два дня, возвращаясь вдвоем на станцию, я осторожно сказал ему:
— Сергей, ты вел себя ужасно.
Слегка раздражаясь, Есенин стал оправдываться… (…)
Но чуть ли не в этот же день, вспоминая деревню, Есенин оправдывался уже по-другому. Он жаловался на боль от крестьянской косности, невежества и жадности. Деревня ему противна, вот почему он так…
— Это не оправдание. Тебя все ценят и любят как лучшего поэта. Но в жизни этого мало. Пора расти в себе человека.
Есенин был почти трезв, заговорил торопливо:
— Ты прав, прав… Это хорошо — «расти человека». Разве вот жениться на С. Толстой и зажить спокойно.
И дорогой, и в Москве он не раз вспоминал о Толстой».
На квартире Софьи Толстой по вечерам стали собираться друзья и знакомые из окружения Есенина. 12 июня отмечали окончание Софьей Андреевной института. Этот вечер описал В. А. Мануйлов, который познакомился с С. Есениным на Кавказе:
«В последний раз я видел Есенина в Москве, в июне 1925 года, в квартире Софьи Андреевны Толстой, на Остоженке в Померанцевом переулке.
Софью Андреевну я знал и раньше, познакомился с нею ещё в 1921 году совершенно независимо от моего знакомства с Есениным. Она в моем представлении была прочно связана с музеем Л. Н. Толстого, с Ясной Поляной.
Я приехал в столицу ненадолго на Пушкинские торжества и тотчас позвонил Софье Андреевне, к которой у меня было какое-то поручение от наших общих знакомых из Баку, людей толстовского круга Она пригласила меня в тот же вечер к себе, сказав, что приготовила приятный сюрприз. Я не знал тогда еще о её сближении с Есениным и о том, что он уже живет в её квартире.
Когда я пришел к Софье Андреевне в десятом часу вечера, мне открыла двери её мать Ольга Константиновна. «Ах, милый, — сказала она, — а у нас дым коромыслом, такая беда! Проходите, проходите, они там…» — и указала на комнату, примыкавшую к прихожей.
В небольшой столовой было накурено. Уже пили. Тут я сразу увидел Есенина и всё понял. «Вы знакомы?» — спросила, улыбаясь, Софья Андреевна и указала на Есенина. Оказалось, это и был обещанный сюрприз.
Читали стихи. Говорили о стихах. Кроме Сергея Александровича, тут были поэт Василий Наседкин, И. Бабель и еще один не известный мне молодой человек. На диване лежал Всеволод Иванов, молча слушавший разговор за столом.
Когда, по-видимому, уже не в первый раз Есенин стал вспоминать свои детские годы в деревне, Бабель, хорошо знавший эти воспоминания, начал подсказывать ему, как всё это было, и очень потешно передразнивал его, а затем стал изображать в лицах, как Есенин продает сразу десяти издательствам одну и ту же свою книгу, составленную из трех ранее вышедших, как издатели скрывают друг от друга «выгодную» сделку, а через некоторое время прогорают на изданной ими книге всем давно известных стихов. Конечно, в этом рассказе многое было преувеличено, но рассказывал он эту историю артистически и всех очень смешил.
Есенин пил много. На смену пустым бутылкам из-под стола доставались всё новые, там стояла целая корзина. Устав рассказывать о своих неладах с отцом, о любви к деду и матери, о сестрах, о драках и о первой любви, Есенин заговорил о присутствующих. Добродушно посмотрел на дремавшего после кутежа накануне Всеволода Иванова и на Василия Наседкина, который с увлечением поедал шпроты и деловито крякал, сказал о Приблудном: «Вот гляди, замечательная стерва и талантливый поэт, очень хороший, верь мне, я всех насквозь и вперед знаю». Приблудный в спортивном костюме, с оголенной могутной грудью, сидел на диване, что-то напевая.
Потом Есенин заговорил обо мне и о моих стихах. Сказал, что я «славный парень», что я «очень умный» — «умнее всех нас!» — и что ему «иногда бывает страшно» со мной говорить. А вот стихи я пишу, по его мнению, «слишком головные». Я возражал ему, не соглашался насчет «головных стихов», сомневался по части ума, но Есенин настаивал на своем и начинал сердиться — он не любил, когда ему противоречили.
В этот вечер Есенин много читал, и особенно мне запомнилось, как он, приплясывая, напевал незадолго до того написанную «Песню»:
Есть одна хорошая песня у соловушки —
Песня панихидная по моей головушке.
Цвела — забубенная, росла — ножевая,
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.
Думы мои, думы! Боль в висках и темени.
Промотал я молодость без поры, без времени.
Как случилось-сталось, сам не понимаю,
Ночью жесткую подушку к сердцу прижимаю…
Теперь увидел, я увидел совсем другого Есенина, и горькое предчувствие неотвратимой беды охватило, вероятно, не только меня.
Я отцвел, не знаю где. В пьянстве, что ли? В славе ли?
В молодости нравился, а теперь оставили.
Потому хорошая песня у соловушки —
Песня панихидная по моей головушке.
Цвела — забубенная, была — ножевая,
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.
В окнах уже проступал ранний июньский рассвет. Все приумолкли, но не спешили расходиться. Есенин подсел к Софье Андреевне и стал говорить о том, как они вот-вот поедут в Закавказье, в Баку и в Тифлис, где их ждут хорошие и верные друзья, а часть лета они проведут на Апшеронском полуострове, где спелые розовые плоды инжира падают на горячий песок.
Всеволод Иванов уснул на диване. Я попрощался с погрустневшей хозяйкой. Есенин, прощаясь, подарил мне только что вышедшую свою маленькую книжечку стихов «Березовый ситец» с надписью: «Дорогому Вите Мануйлову с верой и любовью. Сергей Есенин».
Жить на квартире Галины Бениславской, отношения с которой обострились в связи с предполагаемой женитьбой, Есенин больше не мог.
Бениславская понимала, что её мечта о создании для Сергея Есенина спокойной семейной жизни не сбылась. Она не претендовала на большую любовь и не знала, как за неё бороться. Сергей Есенин беспощадно рубил связывающие их нити. 21 марта 1925 года он написал Гале записку: «Милая Галя! Вы мне близки как друг. Но я Вас нисколько не люблю как женщину. С. Есенин». Бениславская не стала устраивать по этому поводу сцен, не порвала оскорбляющую её записку. Она это расценила как необдуманный шаг Есенина. Ведь совсем недавно из Батуми Сергей Есенин писал ей: «Может быть, в мире всё мираж, и мы только кажемся друг другу. Ради бога не будьте миражем Вы. Это моя последняя ставка, и самая глубокая. Дорогая, делайте всё так, как найдете сами… Я слишком ушел в себя и ничего не знаю, что я написал вчера и что напишу завтра».
Миражем для Бениславской оказался сам Есенин.
Узнав о близком знакомстве Галины с Львом Седовым, сыном Л. Троцкого, поэт проявлял и сцены ревности, и минуты самоанализа, что он не должен мешать счастью женщины, которую уже не любил. С. Есенин тяжело переживал разрыв с Бениславской, но ничего с собой поделать не мог. Гордость руководила его поступками. «Когда между ним и Бениславской произошел разрыв, — писала С. Виноградская, — Есенин понял, что потерял ценнейшую опору в жизни — друга. Он вышел из её комнаты и в коридоре сказал себе вслух: «Ну, теперь уж меня никто не любит, раз Галя не любит». Но когда в минуты отрезвления он решил попросить прощения у Бениславской, она не стала его слушать, резко крикнула: — Вон! — и указала на дверь. После этого ни у Сергея, ни у Гали не было попыток к примирению».
С. Есенин на время перевез свои чемоданы на квартиру В. Наседкина. Он не сразу переехал к Софье Андреевне, а как-то нерешительно, почти нехотя, перебирался к ней. Нерешительность С. Есенина объяснима. Он знал о своей болезни. Но отступать было поздно. Надеялся, что женитьба поможет ему преодолеть недомогание. В июне 1925 года С. Есенин встретился с приехавшим из Ленинграда В. С. Чернявским. «На этот раз Сергей неприятно поразил меня своим видом, — вспоминал В. Чернявский. — В нем было что-то с первого взгляда похожее на маститость, он весь точно поширел и шел не по сложению грузно. Лицо бумажно-белое не от одной пудры, очень опухшее, красные веки при ярком солнечном свете особенно подчеркивали эту белизну…(…) Первое, о чем он рассказал мне, была новая женитьба. Посвящая меня в эту новость, он оживился, помолодел и объявил, что мне обязательно нужно видеть его жену. «Ну, недели через две приедем, покажу её тебе». Имя жены он произнес с гордостью. Сергей Есенин и Софья Толстая — это сочетание, видимо, нравилось и льстило ему. (…) Он говорил мне о житейском, о намеченной после короткого пребывания в Ленинграде поездке с женой на юг, чтобы подольше пожить там (…) Еще событие: окончательная покупка Госиздатом его сочинений для трехтомного издания».
Уходил С. Есенин от Г. Бениславской шумно, не считаясь с ее чувствами и переживаниями. 15 июня 1925 года на квартире в Брюсовском переулке с Есениным были Н. Ашукин, С. Борисов, А. Сухотин. «Сначала все шло мирно и весело, — описал этот день в дневнике Н. Ашукин. — Вина было мало, но Есенин был уже «сильно на взводе». Он прочитал новые стихи. В разговоре со мной хорошо отозвался о моих стихах и сказал: «Ты очень робкий, а я вот нахал…». Рассказывал много о пьянстве Блока. Потом в цилиндре плясал вместе с сестрами русскую. Истерически обиделся на жену (Бениславскую), которая будто бы прятала бутылку вина. Дико сквернословил. Разбил всю посуду, сдернув со стола скатерть, и ушел из дому со всей компанией. Я с Есениным был впервые и решил в этот раз испытать все до конца». Ночь была затрачена на поиски места, где можно было бы еще выпить.
16 июня 1925 года Есенин переехал на квартиру Софьи Андреевны. Предварительно Есенин и Наседкин побывали у Софьи Андреевны на работе в Толстовском музее, известили её, что Сергей окончательно покинул квартиру Бениславской, но жить у Наседкина ему бы не хотелось. Софья Андреевна не возражала против переселения к ней. После работы встретились с Александром Сахаровым, работником издательства, близкого друга Есенина, который недолюбливал Г. Бениславскую и был рад развивавшимся событиям. Все отправились в кино на фильм «Танцовщица из Бродвея». День завершился ужином в Образцовой столовой Моссельпрома «Прага». С. Толстая записала в календаре: «16 июня. Вторник. (…) Ночевал Сергей», а на следующий день: «17 июня. Среда. (…) Ночевала у Наседкина с Сергеем». Есенин известил свою сестру Александру: «Случилось очень многое, что переменило и больше всего переменяет мою жизнь. Я женюсь на Толстой и уезжаю с ней в Крым».
Поездка в Крым не состоялась, но переселение С. Есенина на новое место жительства произошло. Он предпринимает еще одну попытку решить свой квартирный вопрос. 17 июня 1925 года подает заявление в Жилтоварищество № 191:
«Прошу правление Жилтоварищества предоставит мне фонарные две комнаты с семьей в три человека, условия Ваши согласен, нуждаюсь. С. Есенин».
Безрезультатно. Заявление осталось без внимания. Теперь его очередным пристанищем становится квартира С. Толстой.
«В Померанцевом все напоминало о далекой старине: — вспоминала А. А. Есенина, — в массивных рамах портреты толстовских предков, чопорных, важных, в старинных костюмах, громоздкая, потемневшая от времени мебель, поблекшая, поцарапанная посуда, горка со множеством художественно раскрашенных пасхальных яичек и – как живое подтверждение древности — семидесятипятилетняя горбатенькая работница Марфуша, бывшая крепостная Толстых, прислужившая у них всю свою безрадостную жизнь, но сохранившая старинный деревенский выговор: «нетути», «тутати».
Серый, мрачный шестиэтажный дом. Сквозь большие со множеством переплетов окна, выходившие на северную сторону, скупо проникал свет. Вечерами лампа под опущенным над столом абажуром освещала людей, сидящих за столом, остальная же часть комнаты была в полумраке.
Квартира была четырехкомнатная. В одной из комнат жила жена двоюродного брата Сони с двумя маленькими детьми, которых редко выпускали коридор, чтобы не шумели. Другую комнату занимала двоюродная тетя Сони, женщина лет пятидесяти, которая ходила всегда в старомодной, длинной расклешенной юбке и в белой блузке с высоким воротом. Она почти не выходила из своей комнаты, и, бывая в этой квартире в течение нескольких месяцев, я лишь раза два слышала, как Соня с этой тетей обменялись несколькими фразами на французском языке.
В этой квартире жили люди кровно родные между собой, но внутренне чуждые друг другу и почти не общались.
Иногда к Соне приходила её мать — Ольга Константиновна — красивая брюнетка с проседью, с черными, как маслины глазами. Говорила она мало и тихим голосом, как будто боясь спугнуть устоявшуюся здесь тишину».
Нерадостные впечатления остались при первом посещении и у поэта В. Ф. Наседкина: «Квартира С. А. Толстой в Померанцевом переулке, со старинной, громоздкой мебелью и обилием портретов родичей, выглядела мрачной и скорее музейной. Комнаты, занимаемые Софьей Андреевной, были с северной стороны. Там никогда не было солнца. Вечером мрачность как будто исчезала, портреты уходили в тень от абажура, но днем в этой квартире не хотелось приземляться надолго. Есенин ничего не говорил, но работать стал больше ночами. Новое местожительство, видимо, начинало тяготить Есенина».
Эту невписываемость С. Есенина в новую бытовую обстановку заметили многие. «С переездом Сергея к Софье Андреевне сразу же резко изменилась окружающая его обстановка, — писала А. А. Есенина. — После квартиры в Брюсовском переулке, где жизнь была простой, но шумной, здесь в мрачной музейной тишине было неуютно и нерадостно. (…) Сергей очень любил «уют, уют свой, домашний», о котором писала ему Галя, где каждую вещь можно передвинуть и поставить как тебе нужно, не любил завешанных портретами стен. В этой же квартире, казалось, вещи приросли к своим местам и давили своей многочисленностью. Здесь, может быть, было много ценных вещей для музея, но в домашних условиях они загромождали квартиру. Сергею здесь трудно было жить».
Тем не менее, переезд С. Есенина состоялся. Нужно было привыкать к новой обстановке, к новым обязанностям. Большие надежды друзья поэта возлагали на Софью Андреевну, молодую жену, которая, по верному замечанию Вс. Рождественского, «внесла в тревожную, вечно кочевую жизнь поэта начало света и успокоения».
Софья Андреевна была личностью со сложившимся характером, с которым теперь должен был считаться и Есенин. По этому поводу Матвей Ройзман рассуждал: «Я понимал, что Есенин вновь пытается обрести семью, знаменитого сына. Он выбрал женщину и моложе себя на пять лет, и в жилах которой текла кровь величайшего писателя мира. Но, очевидно, решение Сергея созрело быстро, он не успел как следует узнать характер своей будущей жены. Она заведовала библиотекой Союза писателей, и мы знали её. Она была сверх меры горда, требовала соблюдения этикета и беспрекословного согласия с её мнением. Она умела всё это непринужденно скрывать за своим радушием, вежливостью. Эти качества были прямо противоположны простоте, великодушию, благородству, веселости, озорству Сергея. Все эти свойства Софьи Андреевны я узнал, не только сталкиваясь с ней в библиотеке, но и принимая участие в выставке Союза писателей, во главе которой стояла она».
Софья Андреевна в июне 1925 года продолжала временно заменять машинистку в Музее Л. Н. Толстого. «Пишу там на машинке, работы пропасть, платят гроши, но атмосфера приятная», — сообщала она А. Ф. Кони в Ленинград.
Чтобы зарегистрировать брак с Есениным, С. А. Толстая должна была оформить свой развод с мужем. 23 июня 1925 года она подала в Хамовнический народный суд заявление о разводе:
«19 октября 1921 года я вышла замуж за Сергея Михайловича Сухотина. В настоящее время муж мой находится за границей (уехал 13 марта с.г. ). Он тяжело болен, и если вылечится, то вернется не раньше как через 1 ½ года. Настоящим прошу Народный суд развести меня с мужем, т.к. я хочу вторично выйти замуж. С. Сухотина-Толстая».
Софья Андреевна искренне любила Сергея Есенина. Она стремилась создать все условия для душевного комфорта поэта. Об этом можно судить по одной из сохранившихся записок С. Толстой, которые она оставляла Есенину перед уходом на работу: «Сережа, милый, пожалела тебя будить. Зайди ко мне на службу (Пречистенка, 11), или позвони (2-26-90). Звонил Наседкин. Приехал твой дядя и сидит у него. Поезжай туда (Тверской бульвар, д. 7, комн. 18). Ради Бога, помни, что обещал, а то мне что-то на душе тревожно. Целую. Соня».
Молодожены радушно принимали гостей. «21 июня. Воскресенье. У меня обедали: Сергей, Катя, Наседкин, Сахаров, Иван Приблудный, Илья. В городки дома», — записала С. Толстая в своем настольном календаре.
Иногда во время таких обедов С. Есенин подшучивал над Соней. В. И. Эрлих записал один из таких розыгрышей:
«Слушай, кацо! Ты мне не мешай! Я хочу Соню подразнить.
Он рассуждает сам с собой вдумчиво и серьезно:
— Интересно… Как вы думаете? Кто у нас в России все-таки лучший прозаик? Я так думаю, что Достоевский! Впрочем, нет! Может быть, и Гоголь. Сам я предпочитаю Гоголя. Кто-нибудь из этих двоих. Что ж там? Гончаров… Тургенев… Ну, эти не в счет! А больше и нет. Скорей всего — Гоголь.
После обеда он выдерживает паузу, а затем начинает просить прощения у Софьи Андреевны:
— Ты, кацо, на меня не сердись! Я ведь так, для смеху! Лучше Толстого у нас всё равно никого нет, Это всякий дурак знает».
Были не только застольные вечера и званные обеды с друзьями. С. Есенин и С. Толстая в свободное время выходили в город, посещали кинотеатры. В Большом Московском ресторане на Лубянке любили играть в бильярд.
Софья Андреевна познакомилась с друзьями Сергея Есенина: Анной Абрамовной Берзинь, Сергеем Тимофеевичем Коненковым, Вольфом Эрлихом. 18 июня Софья и Сергей радушно принимали приехавших из Баку Петра Ивановича Чагина и его жену Клару Эриховну. На следующий день с Чагиными совершили прогулку на пароходе по Москве-реке. 24-25 июня 1925 года С. Есенин и С. Толстая с П. И. Чагиными и В. И. Болдовкиным выезжали на подмосковную дачу в Малаховку к Б. З. Шумяцкому, полпреду и торгпреду РСФСР в Иране.
Договорились, что Сергею не нужно ехать для лечения в Крым, а лучше провести отдых в Баку.
П. И. Чагин обещал оказать помощь в оформлении нужных документов для выезда и срочно телеграфировал 30 июня 1925 года из Баку С. А. Толстой: «Паспорт обещанные бумаги выслал спешной привет — Чагин». Вслед за телеграммой 4 июля 1925 года П. И. Чагин прислал письмо: «Глубокоуважаемая Софья Андреевна, телеграмму послал несколько раньше, чем это письмо. Прошу снисхождения — норд Бакинских забот и треволнений завертел меня, Сергей по старинке может подтвердить. Посылаю Вам документ о том, что Сергей не кто иной, как «минератор», и письма о Сергее тт. Варейкису и Бляхину из ЦК. Крепко надеюсь видеть в ближайшие дни Вас с нами в Баку. Зачем Крым? Приезжайте в Баку. Отсюда Вас налажу в Боржоми, Цанвери, куда хотите, куда нужно Сергею. На недельку-другую проеду вместе. Приветствую. Жму руку. П. Чагин
P S. Два слова — Сергею. Жду в Баку — тебя, твои стихи, твою жену. За книжку — спасибо. Тост — за наше содружество! Твой Петр»
И тут же приписка: «4. VII. Софья Андреевна, Варейкиса и Бляхина Вы разыщите в Отделе Печати ЦК РКП. Если Варейкис будет в отпуску (он около Москвы), передайте через его секретаря Грачева просьбу об ответе. П.Ч.».
Петр Иванович не любил давать пустых обещаний. К письму С. А. Толстой он приложил записки ответственным работникам ЦК РКП, своим друзьям по партийной работе. Он просил И. М. Варейкиса: «Дружище Иосиф, очень прошу тебя условиться с тов. С. А. Толстой, женой С. А. Есенина, о его поездке за границу для лечения. Перед моим отъездом из Москвы мы с тобой об этом говорили. Твой Петр». Аналогичное письмо было направлено и П. А. Бляхину.
Во время одной из прогулок на улице С. Есенин и С. Толстая повстречали цыганку, которая нагадала им скорую женитьбу, а попугай шарманщика вытянул Соне простое медное кольцо как обручальное — знак скорой свадьбы. Есенин был немного суеверным и решил, что его новый брачный союз предопределен свыше. Это, возможно, и подтолкнуло его к окончательному решению жениться на Софье Андреевне.
Но что-то опять начинало тяготить С. Есенина. Он стал чаще бывать в душевном смятении. Проживание в квартире С. Толстой нередко вызывало у него невеселые мысли. «Перебравшись в квартиру к Толстой, — писала А. А. Есенина, — оказавшись с ней один на один, Сергей сразу же понял, что они совершенно разные люди, с разными интересами и разными взглядами на жизнь».
Есенин стал серьезно относиться к приметам и предсказаниям. В. Ф. Эрлих оказался свидетелем одной сцены в доме С. Толстой: «Июнь 25 года. Первый день, как я снова в Москве. Днем мы ходили покупать обручальные кольца, но почему-то купили полотно на сорочки. Сейчас мы стоим на балконе квартиры Толстых (на Остоженке) и курим. Перед нами закат, непривычно багровый и страшный. На лице Есенина полубезумная и почти торжествующая улыбка. Он говорит, не вынимая изо рта папиросы:
— Видал ужас. Это — мой закат… Ну пошли! Соня ждет».
С. А. Толстая была счастлива и не скрывала своей радости. 2 июля 1925 года она писала большому другу Толстых — юристу, литератору и общественному деятелю А. Ф. Кони в Ленинград: « За это время у меня произошли большие перемены — я выхожу замуж. Сейчас ведется дело моего развода, и к середине месяца я выхожу замуж за другого. До этого я с женихом хочу побывать в Ваших краях. И очень мечтаю, что Вы позволите мне хоть полчасика Вас повидать. Мой жених поэт Сергей Есенин. Я очень счастлива и очень люблю».
На регистрации брака настаивала мать Софьи Андреевны, так как это позволяло прописать С. Есенина на новой квартире, а также пресечь все сплетни. Конечно, по мнению Ольги Константиновны, гражданские браки допускались, но лучше бы всё сделать по закону. Для этого требовалось время, чтобы С. Есенин и С. Толстая могли привести в порядок свои документы. Было решено отпраздновать помолвку, не дожидаясь решения суда о разводе С. Толстой с С. Сухотиным.
«В июне 1923 года Есенин зачастил в Литературно-художественный отдел Госиздата, — писал И. Евдокимов. — Кажется, он вернулся тогда из Баку. Пошли слухи о женитьбе его на С. А. Толстой. И неизменно при этом повторяли: на внучке Толстого. Наконец он мне и сам сказал:
— Евдокимыч, я женюсь. Живу я у Сони. Это моя жена. Скоро будет свадьба. Всех своих ребят позову да несколько графьев. Народу будет человек семьдесят. А Катя — сестра — выходит замуж за поэта Наседкина».
С. Есенин считал вопрос о женитьбе окончательно решенным, о чем писал 3 июля 1925 года Максиму Горькому: «Посылаю Вам все стихи, которые написал за последнее время. И шлю привет от своей жены, которую Вы знали ещё девочкой по Ясной Поляне».
Если и случались какие-то шероховатости в отношениях Сергея и Сони, то они быстро и полюбовно устранялись. Соне приходилось иногда писать отсутствующему Есенину записки: «Сергей, дорогой мой, приходи скорей. Жду тебя очень, очень. Так ужасно грустно. Твоя Соня». После очередной ссоры 7 июля 1925 года С. Есенин пишет покаянную записку: «Соня. Прости, что обидел. Ты сама виновата в этом. Я в Гизе, еду «Красную новь», «Огонек». И позвоню. Сергей». Об этой стычке. Софья Андреевна на листе перекидного календаря 7 июля записала: «Обедать к Като с Катей и Анной Абрамовной. Ссора на улице. Я — домой. Он — к Анне Абрамовне. Он возвратился с Эрлихом и Алей (А. М. Сухотиным). Ночью с Эрлихом ушел».
Узнав о встречах С. Есенина с другими женщинами, Софья Андреевна не могла быть спокойной. В календаре записала: «8 июля. Среда. Вернулся ночью, разговор, измена». В эти дни С. Толстая оказалась в больнице, предполагая, что беременна, но прогноз не подтвердился.
О предстоящей свадьбе стали напоминать друзья. 9 июля 1925 года прислал телеграмму из Баку П. И. Чагин: «Подтвердите получение спешной когда свадьба и приезд Баку. П. Чагин».
Проведение свадьбы было невозможно без определенных затрат, а денег ни у Есенина, ни у Толстой не было. Вся надежда на получение гонорара за «Собрание сочинений». В середине июня С. Есенин завел об этом разговор с И. Евдокимовым: «— Евдокимыч, я насчет моего «Собрания». Мы с тобой говорили в прошлый раз. У меня, понимаешь, свадьба, я женюсь. Вместе со мной в один день сестра выходит замуж за Наседкина. Нельзя ли мне сразу получить тысячи две денег. Только надо скоро».
И был расстроен, когда узнал, что нужно сначала заключить договор, затем получить одобрение руководящих органов Госиздата, а уже после договариваться об условиях издания. Только 30 июня 1925 года был подписан договор, согласно которому С. Есенин обеспечивал свою жизнь на много месяцев вперед. Но деньги нужны были сейчас, чтобы отпраздновать свадьбу. Пришлось занимать у друзей.
У С. Есенина возникли проблемы с паспортом, которого у него после возвращения из-за границы не оказалось на руках. Проживал по выданному когда-то «временному свидетельству», но этот документ утратил свою юридическую силу. 9 июля С. Есенин выехал в Константиново для обмена «временного свидетельства» на паспорт «Дома он прожил около недели, — вспоминала А. А. Есенина. — В это время шел сенокос, стояла тихая, сухая погода, и Сергей почти ежедневно уходил из дома, то на сенокос к отцу и помогал ему косить, то на два дня уезжал с рыбацкой артелью, километров за пятнадцать от нашего села ловить рыбу. Эта поездка с рыбаками и послужила поводом к написанию стихотворения «Каждый труд благослови, удача!», которое было написано там же, в деревне».
Софья Андреевна выехать с С. Есениным в Константиново не могла, но без своей заботы его не оставила. 12 июля 1925 года отправила в Константиново денежный перевод и небольшое письмо: «Сергей, милый, посылаем пока немного денег — сколько есть. Дня через три пришлем ещё. Очень надеюсь, что тебе там хорошо. Пришли хоть несколько слов. На денежном переводе много не скажешь. Да ты сам всё знаешь. Будь здоров, милый. Мыслями всегда с тобой. С.».
С. Есенин получил 50 рублей и тут же из почтового отделения в Кузьминках посылает Соне телеграмму: «Чувствую хорошо скоро увижу люблю — Сергей».
В Константиново С.Есенин обдумывал свою женитьбу, вспоминал встречи с С. Толстой. 14 июля написал стихотворение «Видно, так заведено навеки…», в котором размышлял о серьезных изменениях в своей личной жизни:
Видно, так заведено навеки —
К тридцати годам перебесясь,
Все сильней, прожженные калеки,
С жизнью мы удерживаем связь.
И земля милей мне с каждым днем,
Оттого и сердцу стало сниться,
Что горю я розовым огнем.
И недаром в липовую цветь
Вынул я кольцо у попугая —
Знак, что вместе нам сгореть.
Сняв с руки, я дал его тебе,
И теперь, когда грустит шарманка,
Не могу не думать, не робеть.
И на сердце изморозь и мгла:
Может быть, кому-нибудь другому
Ты его со смехом отдала?
Он тебя расспрашивает сам,
Как смешного, глупого поэта
Привела ты к чувственным стихам.
Только горько видеть жизни край.
В первый раз такого хулигана
Обманул проклятый попугай.
«Кольцо, о котором говорится в этом стихотворении, — комментировала А. А. Есенина, — действительно Сергею на счастье вынул попугай незадолго до его женитьбы на Софье Андреевне. Шутя, Сергей подарил это кольцо ей. Это было простое медное кольцо очень большого размера, и носить такое кольцо было трудно. Но Софья Андреевна сжала его и надела между двумя кольцами. Красоты в этом кольце не было никакой, однако проносила она его много лет». Это кольцо сейчас хранится в Литературном музее в Москве.
16 июля С. Есенин возвратился в Москву, о чем Софья Андреевна пометила как событие на листе своего перекидного календаря: «Приехал Сергей».
После свободной жизни у родителей музейная обстановка в Померанцевом переулке стала еще сильнее раздражать Есенина. Сдерживать себя не мог. Срывы случались нередко. Под пьяную руку мог наговорить лишнего. Потом просил прощения, но через короткое время всё повторялось. Во время очередной ссоры 25 июля 1925 года написал Соне записку: «Не знаю, что сказать, Больше ты меня не увидишь. Ни почему. Люблю, люблю». Софья Андреевна сделала помету на записке: «Письмо мне. Пьяный. Июль 1925.».
С. Есенин писал Н. Вержбицкому в Тифлис: «Милый друг мой, Коля! Всё, на что я надеялся, о чем мечтал, идет прахом. Видно, в Москве мне не остепениться. Семейная жизнь не клеится, хочу бежать. Куда? На Кавказ! До реву хочется к тебе, в твою тихую обитель на Ходжорской, к друзьям. (…) С новой семьей вряд ли что получится, слишком всё здесь заполнено «великим старцем», его так много везде, и на столах, и в столах, и на стенах, кажется, даже на потолках, что для живых людей места не остается. И это душит меня…».
С. Есенину не хватало твёрдости собственного характера, чтобы перебороть свои дурные привычки. Он мечтал начать свою жизнь заново, возлагал большие надежды на поддержку жены, но не мог устоять перед соблазном выпить в знакомой и незнакомой компании, продемонстрировать всем, что он по-прежнему свободен, не скован никакими семейными обязательствами. Нередко это настроение Есенина поддерживали «друзья» из его окружения, которые мечтали пить и есть за его счет, играя на чувствах самовлюбленности и при всяком случае провозглашая его первым российским поэтом.
Непростые отношения складывались в это время у С. Есенина и с женщинами, которые его обожали, любили. Его тяготило постоянство отношений с ними. При встрече с В. Чернявским С. Есенин говорил, что «с женщинами ему по-прежнему трудно было оставаться подолгу. Он разочаровывался постоянно, и любил периоды, когда удавалось жить «без них». Возможно, что в круг таких женщин стала входить и Софья Толстая. В искренности желания Есенина создать новую семью стали сомневаться его близкие друзья «Мне думалось, — вспоминал И. В. Евдокимов, — что женится он по-настоящему, перебесился – дальше может начаться крепкая и яркая жизнь. Скептики посмеивались:
— Очередная женитьба! Да здравствует следующая!
А он сам как-то говорил:
— С Соней у меня давно, давно… давнишний роман. Теперь только женимся.
Скептики оказались правы: в середине месяца он приходил два раза пьяный, растерзанный. Досужие языки шептали:
— Вчера сбежал от невесты! Свадьбы не будет!
И уже приходили колебания — делаемый им шаг становился случайным».
15 июля 1925 года суд принял решение о разводе С. А. Толстой с С. Сухотиным. В календаре С. Толстой появилась запись: «В суд с Сахаровым. В кафе с Сахаровым. К тете Саше. Развелась в суде с Сухотиным. Ночевала у тети Саши».
16 июля С. Есенин возвратился из Константинова, начались новые страдания Софьи Андреевны. Есенин или не ночевал дома, или устраивал скандалы. 18 июля Соня, Сергей, Катя и Эрлих ходили в кинотеатр, смотрели фильм «Табачница из Севильи», но домой Есенин не пошел, ушел к друзьям. В одиночестве Софья Андреевна оказалась и в последующие дни. На листках перекидного календаря она пишет только одно слово, но которое позволяет представить всю трагедию событий тех дней:
19 июля. Воскресенье. Дура.
20 июля. Понедельник. Дура.
21 июля. Вторник. Дура.
22 июля. Среда. Дура.
23 июля. Четверг. Дура.
24 июля. Пятница. Совсем сумасшедшая. Пять дней ничего не соображала».
Поездка в Малаховку недоброжелателями преподносилась как побег от невесты. Такие слухи доходили и до Толстой.
Есенин мало внимания уделял душевным переживаниям Софьи Андреевны. Отказаться от женитьбы он не мог, поэтому было решено организовать для близких друзей помолвку как современную свадьбу без венчания и без регистрации в ЗАГСе, но с приглашением близких друзей. Одним из организаторов помолвки-свадьбы был А. М. Сахаров. Сохранился список приглашенных гостей, написанный рукой С. Есенина: «Воронский, Казанский, Казин, Богомильский, Аксельрод, Вс. Иванов, Шкловский, Савкин, Берлин, Грузинов, Марк, Ан. Абрамовна, Като, Либединский, Ключарев, Яблонский». Сбоку приписано: «Соню, Яну». С. А. Толстая добавила две фамилии: «Орешин и Клычков». Этот список переделал в шутливое стихотворение А. М. Сахаров.
им радость, а нам мучение.
А. С. Воронский, Сахаров, Петр Пильский,
Казанский, Казин, Богомильский,
с ним Аксельрод и Вс. Иванов,
Шкловский из «Лефа», 5 болванов,
2 Савкина, один Берлин,
Грузинов, Марк, 5-6 скотин,
Ан. Абрамовна, Като,
Т. Либединский без пальто.
Сам Ключарев, Яблонский,
О том, как прошел «мальчишник» на квартире С. А. Толстой, рассказал С. Б. Борисов, который хотя и не был перечислен в списке приглашенных, но оказался непосредственным участником и очевидцем.
«Днем, в июне или июле, Сергей пошел в редакцию и позвал меня и Касаткина к себе вечером «на свадьбу с Соней, — вспоминал С. Борисов. — Я спросил, что и кто у него будет.
— Приходи, гармонистов позову, проводы устраиваю, ну и свадьба, и мальчишник — все мои друзья будут… Завтра уезжаю в Баку. Понимаешь? — этим словом он часто заканчивал свою фразу, вкладывая в это слово интимное, что не нуждалось в объяснениях.
Уходя, он добавил:
— Дядю Ваню обязательно тащи… Пить не будем — поговорим…
Вечером я зашел за «Дядей Ваней», и сперва ему не хотелось идти, тяжеловат Иван Михайлович на подъем.
— Шум, пьянство будет, не люблю я этого, — так, приблизительно, он отнекивался.
Я убеждал идти, указав, что если не пойдем, Сергей обидится, а одному и мне не хотелось идти… Пошли. (…) Дорогой говорили о Есенине. Хотелось верить и не верилось, что с женитьбой Сергей вступает в новую полосу жизни, уйдет от чадного омута Москвы кабацкой, меньше станет пить. Помимо того, что вино мешало ему работать, оно являлось источником безденежья (Сергей, несмотря на большие для поэта заработки, часто ходил без гроша) и самое худшее — скандалов, от которых его не только не сумели оберечь случайные собутыльники, но иногда даже и провоцировали. В кругу друзей Есенин не скандалил, те умели его успокоить или увезти вовремя… Я не знал будущей жены Сергея, хотя он как-то накануне говорил мне, что «очень любит Соню»… Может быть это достаточно сильная женщина, чтобы влиять на Сергея — поэтому я был оптимистически настроен. (…).
В столовой Толстой, похожей на музей — все стены были украшены различными портретами Л. Н. Толстого, висели сувениры, записочки и, кажется, молитвы, писанные рукою Льва Николаевича, — было много народу, на столе стояли пустые бутылки из-под вина, под иконами лежали корзинки из-под вина, и Сергей был слегка возбужден. Что-то невеселое было в этом возбуждении… Расцеловавшись с Иваном Михайловичем и со мной и увидев тень досады на наших лицах, он мягко, мило улыбаясь, сказал:
— Ничего… Вот подождем Александра Константиновича (Воронского — С.З.) и пойдем на Трубниковский — там свободнее.
(…) Во время «свадебного пира» я вышел из-за стола в кабинет, где сидела Софья Андреевна, понравившаяся мне своими хорошими толстовскими чертами, и мы долго говорили о Сергее, причем я старался передать и обосновать весь мой оптимизм. Тень сомнения блуждала в улыбке Софьи Андреевны. Помню, что она сказала что-то вроде того, что она хочет верить, что Сергей уйдет от пьянства, что он излечится от этого недуга. Потом, после похорон Есенина, на траурном вечере в Художественном театре, Софья Андреевна во время антракта подошла ко мне и напомнила эту беседу:
— Помните, как мы тогда с Вами хорошо поговорили? — сказала она с грустной улыбкой…».
Во хмелю С. Есенин не сдерживал накопившихся в душе сомнений и со слезами говорил друзьям о своей ошибке. Ю. Либединский запомнил слова С. Есенина:
«— Не выйдет у меня ничего из женитьбы! — сказал он.
— Ну почему не выйдет?
Я не помню нашего тогдашнего разговора, очень быстрого, горячечного, —- бывают признания, которые даже записать нельзя и которые при всей их правдивости покажутся грубыми.
— Ну, если ты видишь, что из этого ничего не выйдет, так откажись, — сказал я.
— Нельзя, — возразил он очень серьезно. — Ведь ты подумай: его самого внучка! Ведь это так и должно быть, что Есенину жениться на внучке Льва Толстого, это так и должно быть!
В голосе его слышалась гордость и какой-то по-крестьянски разумный расчет.
— Так должно быть! — повторил он. — Да чего уж там говорить, — он вытер слезы, заулыбался, — пойдем к народу!».
Вечером решили продолжить «мальчишник» на квартире поэта Савкина Николая Петровича, имажиниста, официального редактора журнала «Гостиница для путешествующих в прекрасном». Н. Савкин жил по адресу Трубниковский переулок, дом 9, квартира 1, где находилось и издательство «Современная Россия». Ряды желающих продолжить гулянку поредели, некоторые ушли по домам, ссылаясь на занятость.
С. Б. Борисов вспоминал: «У Савкина собралось человек двадцать. Помню: В. Наседкин, А. Сахаров, Р. Акульшин, Илья Есенин, Н. Савкин, А. Воронский, И. Касаткин, В. Ключарев, Зорин, а остальных не помню.
Невеселым был «свадебный пир» у Сергея Есенина!
И вина было вдосталь, и компания собралась сравнительно дружная, все знакомые друг другу. А потому, что у многих было какое-то настороженное состояние, любили все Сергея (я что-то вообще не встречал врагов Есенина — завистников — да, пакостников по глупости своей — тоже, но врагами их счесть нельзя было), и потому у всех:
Залегла забота в сердце мглистом.
Сергея оберегали — не давали ему напиваться… Вместо вина наливали в стакан воду. Сергей чокался, пил, отчаянно морщился и закусывал — была у него такая черта наивного, бескорыстного притворства. Но веселым в тот вечер Сергей не был.
Артист Ключарев рассказывал о рассеянном профессоре, который говорил «Бахарева сушня, где играют торгушками», вместо Сухаревой башни, где торгуют игрушками, — рассказы были глуповаты, но так мастерски переданы, развеселиться было необходимо, и все хохотали до упаду… Не смеялся только Сергей. Потом пели замечательные бандитские частушки Сахаров и Акульшин с таким, кажется, веселым рефреном:
Ну, стреляй, коммунист, прямо в грудь…
На дворе заря окропила радостными огнями соседние окна, радовались утру разноголосым щебетаньем птицы, и электричество в комнате пожелтело, бессонная ночь затускнила лица, стол являл собой зрелище безобразное: залитая вином скатерть, опрокинутые бокалы, сизый табачный дым и окурки, насованные в салат…
Сергей, без пиджака, в тонкой шелковой сорочке, повязав шею красным пионерским галстуком, вышел из-за стола и встал у стены. Волосы на голове были спутаны, глаза вдохновенно горели и, заложив левую руку за голову, а правую вытянув, словно загребая воздух, пошел в тихий пляс и запел:
Есть одна хорошая песня у соловушки —
Песня панихидная по моей головушке.
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.
Промотал я молодость без поры, без времени.
Ночью жесткую подушку к сердцу прижимаю…
Пел он так, что всем рыдать хотелось.
Всем стало не по себе. Глаза у многих стали влажные, головы упали на руки, на стол, и второй куплет всеми подхвачен был, и полилась песнь, напоенная безмерной скорбью:
Лейся, песня звонкая, вылей трель унылую,
В темноте мне кажется — обнимаю милую.
Только знаю – милая никогда не встретится.
Как грустно и как красиво пел безголосый, с огрубевшим от вина голосом, Сергей! Как выворачивало душу это пение…
Эх, любовь-калинушка, кровь — заря вишневая.
Как гитара старая и как песня новая.
Что певалось дедами, то поется внуками.
Писатель Касаткин украдкой вытер слезы, потом встал и пошел в соседнюю комнату. А Сергей, медленно приплясывая, продолжал:
Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха,
Все равно любимая отцветет черёмухой.
В молодости нравился, а теперь оставили.
Потом, оборвав песнь, Сергей схватил чей-то стакан с вином и залпом выпил.
После этого затихли писательские разговоры, за окном встало солнце, и многие начали расходиться. Осталось совсем немного народу. И я никогда не забуду расставания. На крылечке дома сидел Сергей Есенин, его ближайшие друзья Касаткин и Наседкин и, обнявшись, горько плакали.
За дверью калитки стояла Софья Андреевна в пальто и ожидала… Через несколько часов нужно было ехать на вокзал.
Я подошел к рыдающим друзьям и взял одного из них за плечо.
— Нужно идти. Сергею скоро ехать.
На меня поднял заплаканное лицо один из них и серьезно сказал:
— Дай еще минут пятнадцать поплакать…
Прощаясь, Сергей судорожно всех обнимал и потом, пока не скрылся за переулком, оборачивался и посылал приветы…»
26 июля С. Есенин и С. Толстая выехали в Баку. Провожать пришла Анна Абрамовна Берзинь и в шутку подарила им маленькую куколку и ванночку. По этому поводу С. Есенин прислал с дороги ей открытку, в которой писал: «Это бывает, моя дорогая, не после ночи, а спустя 9 месяцев».
О трехдневном пребывании в поезде «Москва-Баку» можно судить по письмам, которые Софья Андреевна писала и отправляла на вокзалах во время больших стоянок пассажирского поезда.
Из Ростова-на-Дону 26 июля 1925 года она отправила короткое письмо В. И. Эрлиху в Ленинград: «Эрлих, милый, мы в поезде, по дороге в Баку. Ужасная Москва где-то далеко и верстами и в памяти. Последние дни были невероятно тяжелы. Сейчас блаженно-сонное состояние и физического и духовного отдыха. Вас вспоминаю часто и очень, очень хорошо и никогда не забуду Вашего отношения. Очень надеюсь, что у Вас всё совсем-совсем хорошо. Напишите: Баку, «Бакинский рабочий», П. И. Чагину — нам. С. Толстая». Перед отправкой дала прочитать С. Есенину, который приписал:
У меня — не плохая
Но если ты не женился,
Из Таганрога 26 июля 1925 года Соня писала О. К. Толстой: «Мама, дорогая, второй день к концу. Москва кажется дьявольским, кошмарным сном. Будущее в тумане. А настоящее удивительное — так тихо, тихо, спокойно и дружно. Едим, спим и оба безумно счастливы отдыхом. Никакого пьянства, никаких разговоров, огорчений — всё, как в хорошем сне. Тебя вспоминаем и любим…». В поезде С. Есенин подарил жене «Избранные стихи» (М., «Огонек», 1925) с автографом: «Милой Соне Сергей, поезд на Баку, Грозный. 1925».
Благополучно добрались до Баку. «Мама, голубка, дорогая, только что приехала в Баку, — писала 28 июля 1925 года С. Толстая. — Ехали удивительно. Я очень счастлива и спокойна. Он бесконечно внимателен, заботлив и нежен… Чувствую себя бодрой и спокойной. Сегодня едем в Мардакяны — пляж, сады, тишина — и пробудем там несколько дней. Пиши сюда и скорей, и чаще и больше. О тебе думаю постоянно с любовью огромной, благодарностью и тревогой. Не мучайся. Я тебе буду писать всю правду, и я знаю, что она будет хорошей…»
П. И. Чагин поселил Есенина на своей даче в Мардакянах. Это, как он сам признавал, была доподлинная иллюзия Персии — огромный сад, фонтаны и всяческие восточные затеи. Ни дать, ни взять Персия. Были созданы все условия, чтобы поэт мог хорошо отдыхать с женой и творчески работать. С. Есенин был очень доволен. «Вот и попал благодаря тебе, — говорил Есенин П. Чагину строкой из Пушкина, — «в обитель дальнюю трудов и чистых нег».
«Петр Иванович днем работал, приезжал на дачу только к вечеру, — вспоминала Клара Эриховна Чагина — А мы с Толстой развлекали Сергея Александровича, отвлекали его от кутежей. Он очень любил сидеть наверху бассейна или лежал на ковре и мечтал, а зачастую писал стихи, а потом читал их нам. Часто его приглашали в близлежащие дома отдыха почитать стихи, и он никому не отказывал, охотно шел читать, беседовал с людьми. Были также на даче теннисная и крокетная площадки, где тоже охотно Сергей Александрович коротал время. Ездили и на пляж. Вечерами собирались дачники в комнате, где стояло пианино. Софья Андреевна играла — пели, танцевали, — и, конечно, опять Сергей Александрович читал стихи».
Первые дни отдыха были безоблачными в их отношениях, но уже через неделю Сергей стал скучать, рваться в Баку. О его настроении узнает П. И. Чагин и пишет ему 9 августа записку: «Дружище Сергей, крепись и дальше. Набедокурено довольно — хватит. Что пишешь? Персидские мотивы продолжай, невредно, но работай над ними поаккуратней, тут неряшливость меньше всего уместна. Вспомни уклон и гражданственность, тряхни стариной — очень неплохо было б, чтобы соорудить что-нибудь в честь урожая, не браваду и не державинскую оду, а вещь, понимаешь? Живи в ладу с бабами — твоей и моей. Не снимайся с места. Жди. Буду — поговорим. Обнимаю и жму руку. Твой Петр». Но такими записками Есенина вряд ли можно было удержать.
С. А. Толстая о пребывании в Мардакянах писала матери: «…в крокет играем. Книжки читаем, в карты играем. Сергей много и хорошо пишет. Иногда ездим на пляж — это три версты по узкоколейке. (…) Когда хотим вести светский образ жизни — идем на вокзал, покупаем газеты и журналы и пьем пиво. Около нашего дома муравьи переселяются, и мы сидим над ними часами. У моего Сергея две прекрасные черты — любовь к детям и животным».
Откровеннее и правдоподобнее Софья Андреевна сообщала В. Ф. Наседкину: «…еще — купались в бассейне, плевали в потолок, под конец скучали. Когда хотели вести светский образ жизни, то шли в кинематограф и на вокзал пить пиво. Изредка, даже очень редко (sic!) Сергей брал хвост в зубы и скакал в Баку, где день или два ходил на голове, а потом возвращался в Мардакяны зализывать раны. А я в эти дни, конечно, лезла на все стены нашей дачи, и даже на очень высокие. Как Сергей себя чувствует душой и телом, очень мне трудно сказать. Выглядит он, кажется, немножко лучше. А вообще он квёленький и у меня за него сердце болит, болит».
Произведения С. Есенина появляются на страницах газеты «Бакинский рабочий». 10 августа были опубликованы новые стихотворения «Руки милой — пара лебедей…», «Голубая да веселая страна…», «Море голосов воробьиных…» С. А. Толстая была непосредственным свидетелем создания некоторых стихотворений. Позже она писала в комментариях: « Во время пребывания в Мардакянах С. Есенин написал стихотворение «Отчего луна так светит тускло…». Отчасти в нем отразились впечатления природы в окрестностях Баку, которые так нравились Есенину, и аллея огромных старых кипарисов, по которой Есенин ежедневно проходил к своей даче (…). Окно из комнаты Есенина выходило в сад, и часто на рассвете его будили голоса птиц. В один из таких рассветов он написал стихотворение «Море голосов воробьиных…».. Осенью 1925 года, подготавливая свое «Собрание», он вернулся к этому стихотворению, хотел включить его в цикл «Персидских мотивов», начал его перерабатывать, но не закончил и поэтому не включил в «Собрание».
В Мардакянах были написаны стихотворения «Жизнь — обман с чарующей тоскою…», «Гори, звезда моя, не падай…». В это время Есенин очень плохо себя чувствовал. Опять появилось предположение, что у него туберкулез. Он кашлял, худел, был грустен и задумчив. Настроениями и разговорами этих дней навеяны оба эти стихотворения».
«Как-то в сентябре 1925 года, на даче, — вспоминал П. И. Чагин, — перед отъездом Есенина в Москву, я увидел его грустно склонившим свою золотую голову над желобом, через который текла в водоем, сверкая на южном солнце, чистая прозрачная вода.
— Смотри, до чего же ржавый желоб! — воскликнул он. И, приблизившись вплотную ко мне, добавил: — Вот такой же проржавевший желоб и я. А ведь через меня течет вода даже почище этой родниковой. Как бы сказал Пушкин — Кастальская! Да, да, а всё-таки мы оба с эти желобом — ржавые. В его душе уже тогда, видимо, бродили трагические, самобичующие строки «Черного человека». В конце ноября 1925 года он прислал мне из Москвы, из больницы, письмо с рукописью «Черного человека»: «Прочти и подумай, за что мы боремся, ложась в постели?».
Софья Андреевна оправдывала поведение Есенина в письме О. К. Толстой: «Мама моя, дорогая, милая… Ты скажешь, что я влюбленная дура, но я говорю, положа руку на сердце, что не встречала я в жизни такой мягкости, кротости и доброты. Мне иногда плакать хочется, когда я смотрю на него. Ведь он совсем ребенок наивный и трогательный. И поэтому, когда он после грехопаденья-пьянства кладет голову мне на руки и говорит, что он без меня погибнет, то я даже сердиться не могу, а глажу его больную головку и плачу, плачу. Ну вот я и в сантименты пустилась. Так уж к слову пришлось». Софья Андреевна подробно описывает в письме природу в окрестностях Баку. Понимая, что не это волнует мать, она вновь возвращается к взаимоотношениям с Есениным: «Мы до сих пор не женаты, потому что всё время живем в Мардакянах, а там пытались и не вышло. Но на днях всё равно придется это оформить. Ты не пугайся — всё равно мы муж и жена и у нас очень всё серьезно. Пробудем здесь до конца августа…».
Ольгу Константиновну беспокоила юридическая неопределенность в отношениях Сони и Сергея. В их отсутствие она занималась вопросами прописки Есенина. Столкнулась с бюрократическими трудностями из-за отсутствия необходимых документов. 3 августа 1925 года писала дочери: «До сих пор Сергея Александровича не прописали, ссылаясь на недостаток военных документов, а также сведений о том, где служит. Слов «литератор», оказывается, мало. Хотели приписать «без определенных занятий». Я попросила Илюшу еще раз и более подробную достать бумагу из «Красной нови», что он и сделал, и теперь во вторник (завтра) можно представить её в Жил./тов. Там значится, что Сергей Александрович сотрудник с окладом 150 р. в месяц». Но больше всего Ольгу Константиновну волнует пристрастие Есенина к выпивке. В этом же письме она предупреждает дочь: «Дай Бог, чтобы Сергей Александрович действительно постарался исполнить то, что он мне обещал. Помни, помни, Соня, что вино всегда яд, а для него тем паче. Помни, что это грозит ему, не шути этим. И если нет воли, то лечи непременно».
Письма от друзей и знакомых Есенин и Толстая получали редко. В середине августа прислал письмо В. Наседкин: «Сергей! Подробнее напишу дня через три. Возможно, буду в Тифлисе к 1-му сентябрю. Это выясниться на днях. Пока же целую и приветствую. Соню тоже…» Свое обещание написать письмо Василий Федорович исполнил, но прислал, вероятно, для надежности на имя С. А. Толстой: «Здорово, милая Соня! Надеюсь, отдыхаешь вовсю и нас, грешных, забываешь совсем. А мы еще живы и даже вспоминаем кой-кого (…) Ну, Сонюшка, славная, как же ты всё-таки живешь-то? Ей-богу, интересно, даже больше, чем Сергей. Этот головотяп везде сумеет.(…) …я люблю вас обоих, может быть, только по-разному в степенях… Дядя Вася».
Письмо от В. Наседкина пришло во время очередного пьяного дебоша Сергея, которого задержали в Баку и доставили в отделение милиции. Об этом Софье Андреевне немедленно сообщил сотрудник газеты «Бакинский рабочий» Семен Файнштейн. «Уважаемая Софья Андреевна! — писал журналист 28 августа 1925 года, — Я был более чем уверен, что Сергея вчера выпустили. Ночью в типографию заявился Муран и сообщил, что Сергея привезли обратно. Я звонил час к Петру Ивановичу, но его нигде не нашел. То же сегодня утром. Сейчас я звонил Шекинскому и потребовал (имею ли я право. ) прекратить издевательство. Он обещал поговорить с Конушкиным, и я позвоню ему через 15 минут. Сеня. Буду звонить по всем телефонам, — либо сам сяду, либо Сергея выпустят».
Для Софьи Андреевны эта записка была предвестницей беды.
Узнал о происшедшем П. И. Чагин. О принятых мерах он немедленно, чтобы успокоить, сообщил 29 августа в Мардакяны: «Глубокоуважаемая Софья Андреевна. Только что звонили из 5-го района по просьбе Сергея — очевидно, приходит в себя, просит принести ему переодеться и что-нибудь покушать. Просьба обращена к Вам.
Попутно рапортую последнюю сводку с боевого есенинского фронта. Вечером вчера после операции над флюсом я застал его у отца уже тепленьким и порывающимся снова с места, несмотря на все уговоры лечь спать. Я начал его устыжать, на что он прежде всего заподозрил… Вас в неверности… со мной (поразительный выверт пьяной логики!), а потом направился к выходу, заявив, что решил твердо уехать в Москву, под высокое покровительство Анны Абрамовны, которая его защитит-де ото всех чагинских зол и напастей. Во дворе при выходе он походя забрал какую-то собачонку, объявил её владелице, что пойдет с этой собачонкой гулять, хозяйка подняла визг, сбежалась парапетская публика, милиция, и Сергей снова в тихом пристанище — в 5-м районе. Телефонными звонками сейчас же милицейское начальство мной было предупреждено с выговором за первые побои и недопустимости повторения чего-либо в том же роде. Я предложил держать его до полнейшего вытрезвления, в случае буйства связать, но не трогать. Так он, видимо, и было сделано. Для наблюдения за этим делом послал специального человека. Вот и всё. Делайте Ваши дела, заходите потом в редакцию (в случае его вменяемости вместе с ним), поговорим. С искренним уважением. П. Чагин».
Софья Андреевна немедленно выехала в Баку, добралась до отделения милиции, переговорила с милиционерами, объяснила душевное состояние Есенина. Вечером, теряя былую бодрость и веру, написала В. Наседкину, пытаясь снять навалившуюся тяжесть с души: «Дядя Вася, милый, мне очень скучно, болит голова, и я устала. Напишу Вам ужасно глупое письмо. Но Вы не обижайтесь, а посочувствуйте — понимаете, положение трагикомическое. Сижу со своим драгоценным с Божьей помощью четырнадцать часов в 5-м районе милиции города Баку. Они изволили взять хвост в зубы, удрать из Мардакян и в результате две ночи подряд провели в этом прекрасном месте. Я собрала свои юбки, сделала мрачное лицо и примчалась за ним. Утром пришла его выручать и просидела с ним весь день. Здесь всякие люди загибаются и не хотят его пускать. Он весь, весь побитый и пораненный. Страшно милый и страшно грустный. Я злая, усталая, и мне его жалко-жалко. А впрочем, всё это очень забавно. Сюда приводят пропасть разных разбойников и пьяных, и я наблюдаю, наблюдаю до-довольно! Васенька, я хочу домой! Скажите им, чтобы они нас выпустили! Ну вот. Теперь про все прочее.
Спасибо, очень милый, что написали. Мы только что накануне с Сергеем мрачно посмотрели друг на друга и поговорили на ту тему, что Вы нас забыли. И на другой день Ваше письмо. Спасибо за все хорошие Ваши слова, которые мне было по-настоящему радостно услыхать. Вы ужасно много вещей спрашиваете. Письмом не ответишь. Внешне жили так — всё время, как приехали, жили в Мардакянах у жены Чагина на даче. Там огромный сад, пропасть цветов, бассейны, исступленное солнце — всё очень красиво, — очень не русское, как декорации, сперва захватывающее, а потом скучное. Сергей много писал, по-моему, чудесно. А что скажете Вы, отвратительные придиры — не знаю. Куда поедем отсюда, еще окончательно не решили, но на днях уедем — надоело. Я хочу туда, где будет хорошо ему, а мне всюду хорошо с ним. Я всё дальше еду по той дороге, на которую ступила на Ваших глазах. Мне очень хорошо и очень серьезно. Прощайте, милый друг. Пишите. Всегда люблю и помню Вас. Соня».
Только к вечеру С. Есенина отпустили. В очень скверном настроении добрались до Мардакян. На следующее утро нарочный принес письмо от П. И. Чагина, который из-за своей служебной перегруженности не мог сам приехать. «Дружище Сергей, — писал Петр Иванович, — ты восстановил против себя милицейскую публику (среди неё есть, между прочим, партийцы) дьявольски. Этим объясняется, что при всей моей нажимистости два дня ничего не удавалось мне сделать. А обещали мне вчера устроить тебя в больницу, но, видимо, из садистических побуждений милиция старалась тебя дольше подержать в своих руках. Удержись хоть на этот раз. Пощади Софью Андреевну. Клара тебе всё простила. Загляни. Что забился в нору? Только — крепись. Нахулиганено достаточно. Будя. Твой Петр»
Одновременно С. Есенин получил письмо от И. В. Евдокимова с напоминанием о необходимости ускорить работу над рукописными материалами «Собрания сочинений», сданных в издательство перед отъездом в Баку. Для С. Есенина это был хороший повод принять решение. 31 августа в Москву была отправлена телеграмма: «Приезжаю».
3 сентября С. Есенин и С. Толстая выехали из Баку. Но и на этот раз поездка не обошлась без происшествий. В поезде. 6 сентября 1925 года С. Есенин поссорился с ехавшим в соседнем вагоне дипломатическим курьером Народного комиссариата иностранных дел Адольфом Рога. Нетрезвый С. Есенин по пути из ресторана к себе в вагон, вероятно, перепутал свое купе с купе, в котором ехал А. Рога. Несколько раз Есенин попытался прорваться в купе дипкурьера, который убеждал поэта, что он ошибся. Когда же А. Рога начал призывать вести себя прилично, Есенин ответил ему бранью и готов был начать драку. Прибывшие для усмирения транспортный дежурный Тюленев, комендант охраны поезда Кричевский, проводник вагона Ульянов составили акт, который подписали также дипкурьер А. Рога и член Моссовета Ю. Левит. По приезде в Москву С. Есенин и С. Толстая были задержаны, на поэта был составлен протокол для возбуждения уголовного дела. Позже С. Есенин напишет в милиции объяснительную записку о случившемся происшествии:
«6-го сентября по заявлению Дип.курьера Рога я на проезде из Баку (Серпухов—Москва) будто бы оскорбил его площадной бранью. В этот день я был пьян. Сей гражданин пустил по моему адресу ряд колкостей и сделал мне замечание на то, что я пьян. Я ему ответил теми же колкостями. (…) В купе я ни к кому не заходил, имея свое. Об остальном ничего не могу сказать. Со мной ехала моя трезвая жена. С ней могли и говорить…»
А. Рога 8 сентября 1925 года подал рапорт, который вместе с «Актом» был приобщен прокуратурой к делу о привлечении С. Есенина к уголовной ответственности по факту допущенного им хулиганства.
Софья Андреевна делала всё возможное, чтобы этот инцидент не получил широкой огласки. Скрывала даже от своей матери. О. К. Толстая писала 10 сентября 1925 года: «Соня милая, дорогая моя девочка, как тебе не жаль меня? Неужели ты думаешь, что мне легче переносить неведение, нежели знать всю правду? Уж один твой приезд, неожиданный, сразу подсказал мне, что что-то случилось… (…) Конечно, очень неприятно давать прописывать паспорт Сергея Александровича, из которого весь дом узнает, что вы до сих пор не женаты. Но сделать это надо обязательно, иначе они нам могут сделать неприятности».
С. Толстая не теряла надежды, что Есенин наконец-то угомонится. Эту веру поддерживали близкие друзья. Поэтесса Е. К. Николаева писала из Ленинграда: «Моя дорогая! Ведь о твоем замужестве узнала я еще на вокзале от тебя, но тогда это было в будущем (…) Я рада, если тебе хорошо! Рада, что «просто и счастливо», если для Есенина это будет последней прочной любовью. Твой брак произвел огромное, ошеломляющее впечатление в широких слоях населения: от «публики» просто до Андрея Белого. Когда я рассказала об этом ему и Клавдии Николаевне, они очень изумились. Борис Николаевич открыл свои удивительные глаза, которые он открывает вполне только по большим праздникам, и несколько раз потом возвращался к этому. Ему кажется это удивительным, но, «может быть, Софья Андреевна окажется той твердой линией, которая сможет выправить жизнь Сергея Александровича». Его Борис Николаевич очень любит и ценит. И он и Клавдия Николаевна знали его первую жену (жену Мейерхольда) и считают, что в ином отношении, но в каком-то смысле ты — продолжение этой линии, что в тебе есть твердость, которая трудно поддается определению, но что она-то может помочь Есенину. (…). Есенина люби и целуй! Я его очень любила и люблю».
В этот вечер за ужином немного выпили вина, а затем играли в какие-то незатейливые игры. Одной из этих игр была «буриме». Игра эта заключалась в следующем: давались рифмующиеся попарно четыре или восемь слов. Нужно было составить стихотворение, окончанием каждой строки которого должно было быть одно из данных слов.
После первой попытки мы установили, что игра нам не удалась, и, посмеявшись, мы прекратили её. Софья Андреевна со свойственной ей манерой всё собирать часть этой игры сохранила в своем архиве».
Брак С. А. Есенина и С. А. Толстой был зарегистрирован 18 сентября 1925 года в отделе при Совете Рабочих Депутатов Хамовнического района Москвы под № 2514. В соответствующей графе указано, что С. А. Толстая принимает фамилию «Есенина». Свидетельство о браке С. А. Толстой и С. А. Есенина
Официальная регистрация брака прошла обыденно. Об этом важном событии друзей не оповещали… 22 сентября 1925 года из Ленинграда Софья Андреевна получила письмо от М. Шкапской: «Я до сих пор не знала о Вашем замужестве. Что ж, деточка, в женщине всегда есть жажда мученичества. Знаю, что будет Вам трудно, но ведь Вы и не принадлежите к числу тех, кто выбирает себе легкие дороги в жизни».
Регистрация брака не внесла существенных изменений в супружескую жизнь Сергея и Сони. В перекидном календаре Софья Андреевна с 12 по 18 октября записывала только два слова: «Дома» и «Пил».
Реже молодоженов стали навещать друзья, которым не хотелось быть свидетелями семейных стычек. Приходилось некоторым писать приглашения. 21 октября 1925 года С. Есенин обращался к И. М. Касаткину: «Если ты свободен сегодня, то заходи вечером. Посидим, побалакаем. Будет Леонов. Приходи с женой. Соня очень просит. Твой Сергей».
Бывали дни, когда Есенин душевно успокаивался, но случалось это очень редко. «Октябрьский вечер. На столе журналы, бумаги, — вспоминал В. Ф. Наседкин. — После обеда Есенин просматривает вырезки. Напротив с «Вечеркой» в руках я, Софья Андреевна сидит на диване. Свело, спокойно, тихо. Именно тихо. Есенин в такие вечера был тих. (…). Сочиняя стихи, Есенин чаще заносил на бумагу уже совсем готовое, вполне сложившееся, иногда под давлением необходимости сдавать в журналы. Нередко диктовал своей жене — Софье Андреевне…
Через бюро вырезок Есенин знал все, что писалось о нем в газетах.
О книге стихов «Персидские мотивы», вышедшие в мае в издательстве «Современная Россия», в провинциальных газетах печатались такие рецензии, что без смеха их нельзя было читать.
Заслуживающей внимания была одна вырезка со статьей тов. Осинского из «Правды». Но и она была обзорной: о Есенине лишь упоминалось.
О поэме «Анна Снегина», насколько помнится, не было за полгода ни одного отзыва. Она не избежала судьбы всех больших поэм Есенина.
Есенин с горькой, едва заметной улыбкой отодвигал от себя пачку бумажек с синими наклейками…».
Критики не жаловали поэта. Хороших отзывов на изданные произведения последних лет было мало. Особенно злословили в связи с включением Есениным в поэтические строки имен Маркса, других политических деятелей.
«Осенью 1925 года Сергей очень много работал, — вспоминала А. А. Есенина. — Он уставал и нервничал. Отношения с Соней у него в это время не ладились. И он был рад, когда мы, сестры, приходили к нему. С Катей он мог посоветоваться, поделиться своими радостями и горестями, а ко мне относился как к ребенку, ласково и нежно. В один из сентябрьских дней Сергей предложил Соне и мне покататься на извозчике. День был теплый, тихий».
Иногда ходили в кино. «В последний раз я видел в кафе «Капулер», — вспоминал Н. Захаров-Мэнский. — Он шел в кино с С. А. Толстой и сестрой Катей. Если не ошибаюсь, они шли на «Михаэля» — превосходную инсценировку романа Банга. Это снова был прежний Сережа, тихий и милый, грустный немного, и эти полчаса, проведенные с ним в последний раз, останутся навсегда для меня дорогим воспоминанием».
31 октября, а не в день регистрации брака, как предполагала в своих воспоминаниях Татьяна Сергеевна Есенина, С. Есенин захотел встретиться с детьми, с Зинаидой Райх и познакомить их со своей законной женой. С. А. Толстая записала: «31 октября. Суббота. К детям.» Семилетняя дочь Есенина Татьяна запомнила этот визит: «Ранней осенью, когда было еще совсем тепло, и мы бегали на воздухе, он появился на нашем дворе, подозвал меня и спросил, кто дома. Я помчалась в полуподвал, где находилась кухня, и вывела оттуда бабушку, вытиравшую фартуком руки — кроме неё, никого не было.
Есенин был не один, с ним была девушка с толстой темной косой.
— Познакомьтесь, моя жена, — сказал он Анне Ивановне с некоторым вызовом.
— Да ну, — заулыбалась бабушка, — очень приятно…
Отец тут же ушел, он был в состоянии, когда ему было совершенно не до нас. Может, он приходил в тот самый день, когда зарегистрировал свой брак с Софьей Андреевной Толстой?»
С. А. Толстая надеялась, что творческая работа может отвлечь Сергея Есенина от чрезмерного увлечения вином. Всячески поддерживала идею мужа о создании своего литературного журнала. И. В. Грузинов вспоминал: «1925. Осень. Есенин и С. А. Толстая у меня. Даю ему новый карандаш. — Люблю мягкие карандаши, — восклицает он, — этим карандашом я напишу строк тысячу! Мысль о создании журнала до самой смерти не покидает Есенина. На клочке бумаги он набрасывает проект первого номера журнала…»
 О журнале С. Есенин вел разговоры дома. «В конце осени Есенин опять думал о своем журнале, — писал В. Наседкин. — С карандашами в руках, втроем, вместе с Софьей Андреевной, мы несколько вечеров высчитывали стоимость бумаги, типографских работ и других расходов».
О журнале С. Есенин вел разговоры дома. «В конце осени Есенин опять думал о своем журнале, — писал В. Наседкин. — С карандашами в руках, втроем, вместе с Софьей Андреевной, мы несколько вечеров высчитывали стоимость бумаги, типографских работ и других расходов».
Софья Толстая стала фактически выполнять обязанности литературного секретаря поэта. Она принимала непосредственное участие в подготовке собрания сочинений С. Есенина. Некоторые стихотворения были ею вновь переписаны. С. Есенин вносил поправки в эти копии. С. А. Толстая бережно хранила эти материалы, которые позже оказывались единственными источниками, так как подлинники стихотворений поэта терялись. На переписанных текстах Софья Андреевна позже записала: «Эти стихи были переписаны мною, когда Сергей готовил рукопись своего полного собрания для Госиздата. Правки сделаны его рукой. С. Есенина».
С. А. Толстая записывает под диктовку Есенина новые стихи, которые должны войти в «Собрание сочинений». Она вспоминала: «Осенью 1925 года, вскоре после возвращения в Москву из поездки на Кавказ, где Есенин работал главным образом над продолжением цикла «Персидских мотивов», он несколько раз говорил о том, что хочет написать цикл стихов о русской зиме. Необычайное многообразие, яркость, величавость, сказочная, фантастическая красота нашей зимы, которую с детства любит всякий русский человек, увлекали Есенина, глубоко любившего свою родную страну, пробуждали в нём высокие поэтические настроения, рождали новые прекрасные образы и сравнения. (…). «Эх вы, сани! А кони, кони. » — первое стихотворение в этом цикле. За ним последовали другие на эту тему. В течение трех месяцев, почти до самой своей смерти, Есенин не оставлял этой темы и написал двенадцать стихотворений, в которых отразилась русская зимняя природа. (…) В начале октября 1925 года, в последний год своей жизни, Сергей Есенин увлекался созданием коротких стихотворений. 3 октября были написаны «Голубая кофта. Синие глаза…» и «Слышишь — мчатся сани…». В ночь с 4 на 5 октября он продиктовал мне семь шести- и восьмистрочных стихотворений. На другой день по этой моей записи Есенин сделал небольшие поправки».
Сергея Есенина, который щедро дарил автографы своих произведений, такая щепетильность жены в сохранении материалов выводила из себя. Он усматривал в этом какой-то контроль над собой. «Соня хотела быть помощницей ему, — вспоминала Екатерина Есенина, — она хотела, чтобы ни одно слово, написанное его рукой, не пропало. Сергей не любил оставлять ненужное. Его раздражала её излишняя забота, но он стеснялся сказать ей об этом, и раздраженность накапливалась с каждым днем.
— Она заживо из меня музей хочет сделать, какой ужас! Как это тяжело. Везде во всем музей».
С. А. Толстая содействует публикации новых произведений поэта, ходит с Есениным по издательствам. «По возвращении, — вспоминал И. В. Евдокимов, — он несколько раз был вместе с женой в отделе, и мы втроем, усевшись тут же за стол, работали над распланированием стихотворений.
— Я, понимаешь, Евдокимыч, хочу так, — заговорил он появившись в первый же раз после приезда, — я обдумал… В первом томе — лирика, во втором — мелкие поэмы, в третьем — крупные. А? Так будет неплохо. Тебе нравится?
— Как хочешь, — отвечал я, — это твое дело…»
В ноябре 1925 года редакция журнала «Новый мир» обратилась к Есенину с просьбой дать новую большую вещь. С. Есенин решил напечатать «Черного человека». Он увлеченно работал над подготовкой поэмы к печати в течение двух вечеров 12 и 13 ноября. Помощницей была Софья Андреевна. Она сделала краткие записи в перекидном календаре: «Переписано с первоначального черновика. Исправления (вставка и слитье строк) сделаны по приказанию Сергея».
12 ноября. Четверг (…) «Черный человек».
13 ноября. Пятница. Кончен «Черный человек».
14 ноября. Суббота (…) В «Современную Россию». «Журналист». Сдан «Черный человек».
Этот день надолго запомнился С. Толстой. 14 ноября 1932 года С. А. Толстая записала: «Семь лет тому назад в этот вечер (14) он (Есенин) кончил «Черного человека», пришел ко мне на диван, прочел его мне. (…) потом сказал: «Он (черный человек) вышел не такой, какой был прежде, не такой страшный, потому что ему так хорошо со мною было в эти дни».
Категорически Софья Андреевна не соглашалась с теми, кто говорил, что драматическая поэма С. Есенина «писалась чуть ли не в состоянии опьянения, в каком-то бреду». По её мнению, такое утверждение рождено было «дремучей обывательщиной». В 50-е годы Софья Андреевна вспоминала: «Ведь «Черному человеку» Сергей отдал так много сил! Написал несколько вариантов поэмы. Последний создавался здесь, в этой комнате, в ноябре двадцать пятого года. Два дня напряженной работы. Сергей почти не спал. Закончил — сразу прочитал мне. Было страшно. Казалось, разорвется сердце. И как досадно, что критикой «Черный человек» не раскрыт… А между тем я писала в своих комментариях. Замысел поэмы возник у Сергея в Америке. Его потряс цинизм, бесчеловечность увиденного, незащищенность человека от черных сил зла. «Ты знаешь, Соня, это ужасно. Все эти биржевые дельцы — это не люди, это какие-то могильные черви. Это «черные человеки».
С. Есенин и С. Толстая вместе продолжали работать над составлением «Собрания сочинений». Издательские сроки поджимали. Необходимо было уточнить время создания того или иного произведения. Память на установление точных дат С. Есенина порой подводила. Он выписал себе документ для поиска в Румянцевской библиотеке опубликованных стихотворений в старых журналах, привлекает для помощи своего двоюродного брата Илью. Постепенно макет собрания стал приобретать удобный для издательства вид.
И. Евдокимов писал об этих днях: « Есенин (…) мельком заходил ко мне, раздраженно бормотал о каких-то и от кого-то обидах, собирался куда-то уезжать, а потом внезапно поднимался, сули зайти — и не заходил. При таком его состоянии работа над изданием была немыслима.
Вдруг как-то позвонила жена по телефону: и на второй, на третий день он пришел вместе с ней.
Мы уселись за стол. Я выложил стихотворения. Есенин исхудал, побледнел, руки у него тряслись, на лице его, словно от непосильной работы, была глубочайшая усталость, он капризничал, покрикивал на жену, был груб с нею… И тотчас, наклоняясь к ней, с трогательной лаской спрашивал:
— Ты как думаешь, Соня, это стихотворение сюда лучше?
А потом сразу серчал:
— Что же ты переписала? Где же то-то, понимаешь, недавно-то я написал? Ах, ты.
И так мешались грубость и ласка все время.
В отделе было душно и жарко. На лбу у него был пот, влажные руки он вытирал о пиджак.
— Сережа, ты разденься, — подсказал я, — тебе будет удобнее.
(…) Сделали первый том. Начали определять даты написания вещей. Тут между супругами возник разлад. И разлад этот происходил по ряду стихотворений. Есенин останавливал глаза на переписанном Софьей Андреевной произведении и ворчал:
— Соня, почему ты написала тут четырнадцатый год, а надо тринадцатый?
— Ах. Ты всё перепутала! А вот тут надо десятый. Это одно из моих ранних… Нет! Н-е-т! Есенин задумывался. — Нет, ты права! Да, да, тут правильно.
Но в общем у меня получилось совершенно определенное впечатление, что поэт сам сомневался во многих датах. Зачеркнули ряд совершенно сомнительных. Долго обсуждали — оставлять даты или отказаться от них вовсе. Не остановились ни на чем. Проработали часа полтора-два. И сделали два тома. (…)
Собирались и еще и еще. Есенин несколько раз приносил новые стихотворения, но уже небольшими частями, проставлял некоторые даты, а главную, окончательную проверку по рукописям откладывал до корректуры…»
Участие С. А. Толстой в подготовке первого собрания сочинений С. Есенина нигде юридически не оформлялось. Делала она это из любви к мужу. Когда в 1927 году возникла необходимость подтверждения её работы над собранием сочинений С. Есенина, И. В. Евдокимов написал ей: «Софья Андреевна, одновременно с этим я пишу в Местком Союза писателей о том, что Вы принимали участие в литературной работе над 3 томами «Собрания» сочинений С. А. Есенина, читали корректуру в окончательном виде и как бы за него подписывали тома к печати, весь автограф написан Вашей рукой и т.д. ГИЗ, конечно, Вам ничего выдать не может. Если моего письма будет недостаточно, попробуйте обратиться в ГИЗ».
Спокойных дней, когда Есенин был трезв, становилось всё меньше и меньше. Стычки возникали по всякому поводу. «Хозяйство Сони было плохо налажено, — рассказывала Екатерина Есенина. — Непочиненные носки, недостаток чистых носовых платков его тоже бесили. Соня не знала, как важны эти мелочи для Сергея, а Сергей считал неудобным её переделывать и учить. Здоровому человеку все это легко можно было уладить. Соня беспрекословно исполняла все его желания, но он не высказывал никаких желаний».
После напряженной творческой работы опять начиналась пьянка, к которой нередко подталкивали С. Есенина его друзья, любившие выпить.
«На Тверском бульваре (шли бульварами) я свернул к себе на квартиру, пообещав компании прибыть через полчаса, — писал В. Ф. Наседкин, — Меня встретила Софья Андреевна, встревоженная и беспомощная.
— Пьет… Сахаров принес ужас сколько вина.
Я хотел было уйти, Софья Андреевна удержала меня.
Через несколько минут из соседней комнаты вышел Есенин — совершенно пьяный. В его помутивших и блуждающих взорах и в движениях рук было что-то тревожное, мрачное. Он шел, словно готовясь к опасному прыжку.
Увидев меня, стал ругаться. Потом схватил поднос, но один из присутствующих удержал его.
После этого я не виделся с Есениным дня три».
Сергей и Соня старались не выносить свои разногласия на люди, хотя сделать это было трудно. «Оберегая меня, от меня скрывали разные неприятности, и я многого не знала, — вспоминала А. А. Есенина. — Не знала я и того, что между Сергеем и Соней идет разлад. Когда я приходила, в доме было тихо и спокойно, только немножечко скучно. Видела, что Сергей чаще стал уходить из дома, возвращался нетрезвым и придирался к Соне. Но я не могла понять, почему он к ней так относится, так как обычно в таком состоянии Сергей был нетерпим к людям, которые его раздражали. И для меня было совершенной неожиданностью, когда после долгих уговоров сестры Сергей согласился лечь в клинику лечиться, но запретил Соне приходить к нему».
Нервные срывы у Есенина участились. Однажды, в порыве гнева, разбил великолепный гипсовый бюст работы скульптора С. Т. Коненкова. Стал мнительным, пугался беспричинно чего-то. А. Изряднова вспоминала: «В сентябре 1925 года пришел с большим белым свертком в 8 часов утра, не здороваясь, обращается с вопросом:
— У тебя есть печь?
— Печь что ли хочешь?
— Нет, мне надо сжечь.
Стала уговаривать его, чтобы не жег, жалеть будет после, потому что и раньше бывали такие случаи: придет, порвет свои карточки, рукописи, а потом ругает меня — зачем давала. В этот раз никакие уговоры не действовали, волнуется, говорит: «Неужели даже ты не сделаешь для меня то, что я хочу?».
С друзьями С. Есенин начал обсуждать предполагаемый переезд на другую квартиру. Г. Бениславская нашла ему комнату. Есенин внес задаток, но об этом узнала Софья Андреевна, поговорила с мужем и вернула задаток. На короткое время эта тема была закрыта, хотя Есенин продолжал при случае говорить друзьям о желании переехать на новое местожительство. Писатель Ю. Либединский вспоминал: «Но не помню, в этот ли раз или в другой, когда я зашел к нему, он на мой вопрос, как ему живется, ответил:
— Скучно. Борода надоела…
— То есть как это какая? Раз — борода, — он показал на большой портрет Льва Николаевича, — два — борода, — он показал на групповое фото, где было снято все семейство Толстых вместе с Львом Николаевичем. — Три — борода, — он показал на копию с известного портрета Репина. — Вот там, с велосипедом, — это четыре борода, верхом — пять…А здесь сколько? — Он подвел меня к стене, где под стеклом смонтировано было несколько фотографий Льва Толстого. — Здесь не меньше десяти! Надоело мне это, и все! — сказал он с какой-то яростью.
Я ушел с предчувствием беды. Беда вскорости и стряслась: начался страшный запой, закончившийся помещением Сергея в психиатрическую лечебницу Ганнушкина».
В. Ф. Наседкин, иногда был очевидцем неприятных семейных сцен в Померанцевом переулке: «С конца сентября и до клиники с Есениным, когда он был пьян, я старался не встречаться, но иногда он сам заходил ко мне.
Пьяный, Есенин стал невозможно тяжел. От одного стакана вина он уже хмелел и начинал «расходиться».
Бывали жуткие картины. Тогда жена его Софья Андреевна и сестра Екатерина не спали по целым ночам.
(…) Трезвый Есенин, с первого взгляда, мало походил на больного. Только всматриваясь в него пристальней, я замечал, что он очень устал. Часто нервничал из-за пустяков, руки его дрожали, веки были сильно воспалены. Хотя бывали и такие дни, когда эти признаки переутомления и внутреннего недуга ослабевали.
В первый и во второй день после запойной полунедели до обеда Есенин обыкновенно писал или читал. Писал он много, случалось до 8 стихотворений сразу. «Сказка о пастушонке Пете» написана им за одну ночь.
По заведенному обычаю часам к 5 приходил с арбузом я, и вместе обедали. А после обеда Сергей читал свои новые стихи. Софье Андреевне и Екатерине эти стихи уже читались до меня, с новой читкой завязывался спор: какое из написанных стихотворений лучше. Есенин слушал и спокойно улыбался.
В «трезвые» дни Есенин никого не принимал. Его никуда не тянуло….».
Есенин знал о своей болезни, но ничего не предпринимал для лечения. Более того, его преследовали мрачные мысли о приближающемся конце жизни. Галина Серебрякова слышала, как при встрече у нее дома С. Есенин в разговоре несколько раз повторял фразу: «Сколько ещё мне осталось ходить по этой неспокойной, взбаламученной земле?» В стихотворения слово «смерть» стало встречаться очень часто. Иногда стала проявляться мания преследования. Ночевал однажды Есенин в компании с Сахаровым у Аксельрода. Пили. Опьянели и уснули: на кровати — Есенин с Сахаровым, на диване Аксельрод. Ночью Сахаров просыпается от навалившейся на него какой-то тяжести и чувствует, что его кто-то душит. Открывает глаза и с ужасом видит вцепившегося ему в горло Есенина. Отбиваясь, Сахаров окликнул: «Что ты, Сергей, делаешь? Что с тобой?» Есенин трясся, как в лихорадке, спрашивая как бы про себя: «Кто ты? Кто?» Сахаров зажег свет. Есенин вскоре успокоился и опять уснул. Под утро ночевавшую компанию разбудил звон разбиваемых стекол. Посреди комнаты стоял Есенин, в слезах, осыпанный осколками разбитого им зеркала. Тут же на полу валялось пресс-папье. Всё было как в «Черном человеке».
Из-за воспаления горла Есенин не мог читать стихи. Это его удручало. Только выпивка его оживляла. После первой рюмки он перевоплощался из молчаливого человека в ухарски развеселого парня.
Софья Андреевна прилагала все усилия, чтобы организовать лечение мужа. Она знала о суровом диагнозе врачей, искала поддержку у друзей, чтобы повлиять на Есенина, который сопротивлялся любой попытке начать лечение. С большим трудом достали путевку в санаторий, но и здесь ничего не вышло.
Как-то на углу Советской площади и Тверской Сергей и Соня повстречали С. М. Городецкого, который впоследствии писал: «Он был с Толстой, под руку. Познакомил. Вид у него был скверный. «Тебе отдохнуть надо». — «Вот еду в санаторию. Иду в Госиздат деньги получать». Мы поцеловались, а следующий поцелуй он уже не мог возвратить мне». Поездка для лечения в санатории не состоялась. Повод для отказа С. Есенин нашел быстро.
«Приблизительно в то же время такая же история получилась с санаторием Мосздрава, — вспоминал В. Ф. Наседкин, — Нервы Есенина были расшатаны окончательно. Нужно было лечиться и отдыхать. Несколько дней Галя и Екатерина хлопотали в Мосздраве о путевке. Наконец путевка получена. Санаторий осмотрен: все хорошо, но в последний момент Есенин ехать не захотел. Софья Андреевна пожелала ехать вместе с Есениным, но для неё не было путевки. Есенин воспользовался этой возможностью не ехать в санаторий».
Друзья делают все возможное, чтобы помочь поэту. 25 октября 1925 года с письмом к Ф. Э. Дзержинскому обратился Х. Г. Раковский, которого только что назначили Послом России во Франции: «Дорогой Феликс Эдмундович! Прошу Вас оказать нам содействие — Воронскому и мне, чтобы спасти жизнь известного поэта Есенина — несомненно самого талантливого в нашем Союзе. Он находится в очень развитой стадии туберкулеза (захвачены оба легкие, температура по вечерам и пр.). Найти куда его послать на лечение нетрудно. Ему уже предоставлено было место в Надеждинском санатории под Москвой, но несчастье в том, что он вследствие своего хулиганского характера и пьянства не поддается никакому врачебному взаимодействию. Мы решили, что единственное еще оставшееся средство заставить его лечиться — это Вы. Пригласите его к себе, проберите хорошенько и отправьте вместе с ним в санаториум товарища из ГПУ, который не давал бы ему пьянствовать. Жаль парня, жаль его таланта, молодости. Он много еще мог дать не только благодаря своим необыкновенным дарованиям, но и потому, что, будучи сам крестьянином, хорошо знает крестьянскую среду. Х. Раковский». Получив письмо 25 октября 1925 года, Ф. Э. Дзержинский передал его секретарю с резолюцией: «г. Герсону. М.б. Вы могли бы заняться. Ф.Д.». Секретарь стал искать С. Есенина, но найти поэта, который не имел постоянного места работы, оказалось делом сложным.
С. Есенин в начале ноября 1925 года выехал на одну неделю в Ленинград. Хотела с ним поехать и Софья Андреевна, но по разным причинам поездка вдвоем сорвалась. О своем желании съездить в северную столицу С. Толстая-Есенина писала А. Ф. Кони в начале октября: «…Я несколько раз собиралась с мужем в СПб , да так до сих пор не можем собраться… В Москву я вернулась совсем недавно. Летом мы жили на Кавказе, недалеко от Баку, в очень красивом, очень интересном и очень жарком месте. Я с большой тоской поехала обратно в Москву — здесь холод, слякоть и люди и суета. Пришлось сюда ехать, так как мой муж связан с Москвой делами.
На предстоящую зиму у нас разные планы, но пока ничего еще окончательно не решено. Очень надеюсь, что попадем все-таки в СПб, и мне удастся как следует поговорить с Вами, а в письме очень трудно. А в двух словах так — мне очень хорошо жить на свете, потому что я очень люблю своего мужа и потому, что он замечательный человек. И оттого, что я люблю, и оттого, что он такой — у меня очень хорошо на душе, и я знаю, что становлюсь лучше и мягче душой.
Вы спрашиваете мою новую фамилию и адрес? Есенина, а адрес тот же Остоженка, Померанцев, д. 3, кв. 8».
С. Есенин в разных компаниях устраивал скандалы, ночевал, где придется.
Краткие записи С. Толстой свидетельствуют, что он под всяким предлогом пытался покинуть квартиру в Померанцевом переулке. По возвращении из Ленинграда Есенин 7 ноября гостит у Савкиных, Светлова, Наседкина, 8-9 ноября — у Якулова, 11 ноября — у Наседкина. И везде выпивка. Слухи о том, что поэт бросил пить, оказывались ложными. И. В. Евдокимов вспоминал об этой поре: «Помню такой случай. Разговаривали в одной редакции об Есенине. «Не пьет», «не пьет», «едет лечиться» — говорили писатели и родственники — «кажется, всё обойдется. Исследование врачей дало благополучные результаты». Известный критик, бывший тут, вдруг задумался, горько улыбнулся и сказал: «Ерунда! Он вчера был у меня. Принес бутылку… и пил стаканами». Кто-то невесело засмеялся — и непоправимое, безнадежное опять нависло над обманувшимися людьми».
Нередко С. Есенин стал относиться неуважительно к близким друзьям, которые проявляли заботу о нем, порой в ущерб своим личным интересам. В разговорах поэт стал неодобрительно отзываться о Софье Андреевне, полагая, что она во всем инициатор и стремится его полностью подчинить, лишить личной свободы.
Г. А. Бениславская записала в дневнике 16 ноября: «Сколько же я могла получить и одновременно с этим дать другим, если бы не отдала почти до последней капли все для Сергея. (…) Думала, что Сергей умеет ценить и дорожить этим. И никогда не предполагала, что благодаря этому Сергей перестанет считаться со мной и ноги на стол положит. Думала, для него есть вещи ценнее ночлега, вина и гонорара. А теперь усомнилась. Трезвый он не заходит, забывает. Напьется — сейчас же 58-36, с ночевкой. В чем дело? Или у пьяного прорывается и ему хочется видеть меня, а трезвому не хватает смелости? Или оттого, что Толстая противна, у пьяного нет сил ехать к ней, а ночевать где-нибудь надо? Верней всего, даже не задумывался над этим. Не хочется к Толстой, ну а сюда так просто, как домой, привык, что я не ругаю пьяного и т.д. Была бы комната, поехал бы туда. А о том, чтобы считаться со мной, — он просто не задумывался. (…)
Наконец, погнался за именем Толстой — все его жалеют и презирают: не любит, а женился — ради чего же, напрашивается у всех вопрос, и для меня эта женитьба открыла глаза: если она гонится за именем, быть может того не подозревая, то они ведь квиты. Если бы в ней чувствовалась одаренность, то это можно иначе толковать. Но даже она сама говорит, что, будь она не Толстая, её никто не заметил бы даже. Сергей говорит, что он жалеет её. Но почему жалеет? Только из-за фамилии. Не пожалел же он меня. Не пожалел Вольпин, Риту и других, о которых я не знаю. Он сам себя обрекает на несчастья и неудачи. Ведь есть кроме него люди, и они понимают механизмы его добывания славы и известности. А как много он выиграл бы, если бы эту славу завоевывал бы только талантом, а не этими способами. Ведь он такая же б…, как француженки, отдающиеся молочнику, дворнику и прочим. Спать с женщиной, противной ему физически, из-за фамилии и квартиры — это не фунт изюму. Я на это никогда не могла бы пойти. Я не знаю, быть может, это вино вытравило в нём всякий намек на чувство порядочности. Хотя, судя по Кате, эта расчетливость в нем органична. Ну, да всяк сам свою судьбу заслуживает».
С. Есенин в нетрезвом виде продолжает от скуки выдумывать разные истории, не предполагая, что это может доставлять неприятность людям, которые его любили. 18 октября 1925 г. Анна Назарова участвовала в таком розыгрыше: «Я ночевала у Гали. Было рождение Сони Виноградской, пришел к ней Есенин и зашел к Гале в комнату. (…) Есенин с хохотом пришел в комнату и довольный начал выдумывать, чтобы «выкинуть» еще. «Скучно уж очень мне. А знаете что, Аня, поедемте венчаться». — «Как венчаться?» — «Да очень просто. Возьмем Галю, еще кого-нибудь свидетелем, поедем в Петровский парк и уговорим какого-нибудь попа нас обвенчать. Давайте?» — «Зачем?» — «Скучно мне, и это интересно, возьмем гармониста, устроим свадьбу». Я согласилась. «Я позвоню Илье, получу деньги, заедем за вами в редакцию и поедем. Хорошо?!» Ладно. Я ушла на работу, условившись, что в 2 часа они с Галей заедут за мной. Ушла, почти не попрощавшись, потому что Есенин говорил определенно, что мы «увидимся и повенчаемся». «Все хорошо-то будет!» — повторял он. В Госиздате его встретил не Илья, а Толстая и, кажется, увела домой».
Есенин не стал скрывать, что разлюбил Толстую. Он не мог теперь друзьям объяснить, ради чего женился. О. К. Толстая, не очень любившая своего зятя, писала Р. А. Кузнецовой 11 января 1926 года: « Я вот абсолютно не понимаю его жизни, многое в ней мне даже отвратительно. Когда увидимся, расскажу более подробно, а в письмах невозможно: слишком безобразно и тяжело, непередаваемо. Сейчас мне одна знакомая рассказала, что Соню обвиняют, что она не создала ему “уюта”, а другие говорят, что она его выгнала. Да какой же можно было создать уют, когда он почти все время был пьян, день превращал в ночь и наоборот, постоянно у нас жили и гостили какие-то невозможные типы, временами просто хулиганы, пьяные, грязные. Наша Марфа с ног сбивалась, кормя и поя эту компанию. Все это спало на наших кроватях и тахте, ело, пило и пользовалось деньгами Есенина, который на них ничего не жалел. Зато у Сони нет ни башмаков, ни ботков, ничего нового, все старое, прежнее, совсем сносившееся. Он все хотел заказать обручальные кольца и подарить ей часы, да так и не собрался. Ежемесячно получая более 1000 рублей, он все тратил на гульбу и остался всем должен: за квартиру 3 мес., мне (еще с лета) около 500 руб. и т. д. Ну, да его, конечно, винить нельзя, просто больной человек. Но жалко Соню. Она была так всецело предана ему и так любила его как мужа и поэта, что большей преданности нельзя найти. Просто идолопоклонство у нее было к нему, к его призванию. »
О пьяных похождениях мужа Софья Андреевна знала, но продолжала терпеливо к этому относиться, убеждая Есенина в необходимости лечения от алкоголя и других болезней. Договаривается с доктором Д. А. Аменицким, специалистом по душевным и нервным болезням, о проведении консилиума. 28 октября консилиум состоялся, Есенину было рекомендовано срочно начать лечение.
Софья Андреевна старалась не упускать мужа из виду, хотела быть рядом, когда он шел в гости. 15 ноября 1925 года побывали в гостях у Ивана Михайловича Касаткина. «Почти накануне отъезда (описка, должно быть накануне лечения в больнице — С.З.) он был с женою у меня в гостях, — писал 16 января 1926 года И. Касаткин И. Вольнову, — мы выпили, он много плясал, помахивая платочком, и на последней своей книжке написал мне: «Другу навеки, учителю дней юных, товарищу в жизни…» Но чаще Сергей ходил в гости без Сони.
С. Есенин понимал, что Софья Андреевна желает ему только добра. Он в ней нередко искал защиту, опору, не надеясь на себя. Поэт Н. Асеев рассказывал: «Я встретил его в Гизе. Это было совсем незадолго до развязки. Есенин еще более потускнел в обличье: он имел ид усталый и несчастный. Улыбнулся мне, собрав складки на лбу, виновато и нежно сказал:
— Я должен приехать к тебе извиняться. Я так опозорил себя перед твоей женой. Я приеду, скажу ей, что мне очень плохо последнее время! Когда можно приехать?
(Дело в том, что однажды С. Есенин с кем-то из приятелей зашел к Н. Асееву домой и, не застав его, остался дожидаться. Заспорив со своим спутником, Есенин начал с ним шуточную потасовку и напугал этим жену Н. Н. Асеева).
Я ответил ему, что лучше бы не приезжать извиняться, так как дело ведь кончится опять скандалом.
Он посмотрел на меня серьезно, сжал зубы и сказал:
— Ты не думай! У меня воля есть. Я приеду трезвый. Со своей женой! И не буду ничего пить. Ты мне не давай. Хорошо? Или вот что: пить мне всё равно нужно. Так ты давай мне воду. Ладно? А ругаться я не буду. Вот хочешь, просижу с тобой весь день и ни разу не выругаюсь?
В хриплом полушепоте его были ноты упрямства, прерываемого отчаянием. Особенно ему понравилась мысль приехать с женой…»
В минуты тяжелых раздумий Софья Андреевна делилась удручающими её мыслями с друзьями. 23 ноября 1925 года писала в Крым Волошиной:
«…Маруся, милая, Вы хотите про меня знать? Очень трудно в письме. Жизнь моя, и я внутренне, и все меня окружающие — совсем другое. Вы бы не узнали меня. Знаете, я немножко на Вас стала похожа, как Вы с Максом. Все мои интересы, вниманье, заботы на него направлены, только чтобы ему хорошо было, трясусь над ним, плачу и беспокоюсь.
Он очень, очень болен. Он пьёт, у него ужасные нервы и сильный активный процесс в обоих легких. И я никак не могу уложить его лечиться — то дела мешают, то он сам не хочет.
Он на глазах у меня тает, и я ужасно мучаюсь. А так всё очень, очень хорошо, потому что между нами очень большая любовь и близость и он чудесный. Я совсем отошла от своего прежнего круга, почти никого не видаю и, как Душечка, с головой в литературной жизни и видаю главным образом литературную публику. Внутренне чувствую себя очень, очень серьёзной, взрослой, или тихой, или грустной.
Иногда думаю, что моя жизнь нечто вроде весьма увесистого креста, который я добровольно и сознательно с самого начала взвалила себе на плечи, а иногда думаю, что я самая счастливая женщина и думаю — за что? Маруся, дайте Вашу руку, пожмите мою и согласимся в одном — поэты как мужья — никудышные, а любить их можно до ужаса и нянчиться с ними чудесно, и сами они удивительные…»
Старшая сестра Есенина Екатерина Александровна оказалась свидетелем скверного отношения Сергея к жене и двоюродному брату в минуты душевного кризиса. «Один раз Сергей вернулся домой в состоянии худшем, чем обыкновенно, — писала она в воспоминаниях. — Соня увела его спать. Мы с Ильей сидели каждый за своей книгой. Через несколько минут Соня вернулась и послала к Сергею Илью. «Иди к нему, — сказала она Илье, — он не хочет, чтобы я была с ним». Илья вернулся быстрее, чем Соня. «Выгнал», — уныло сказал Илья. Когда я вошла к Сергею, он лежал с закрытыми глазами и, не открывая глаз, спросил: «Кто?» Я ответила и тихо села на маленькую скамеечку у его ног. «Екатерина, ты веришь в Бога? — спросил Сергей. «Верю», —ответила я. Сергей метался в кровати, стонал и вдруг сел, отбросив одеяло. Перед кроватью висело распятие. Подняв руки, Сергей стал молиться: «Господи, ты видишь, как я страдаю, как тяжело мне»
Есенин хотел уехать в деревню, надеясь там найти успокоение. «Дорогая Соня, я должен уехать к своим, — писал он жене. — Привет Вам, любовь и целование. С.» Выехать не удалось, так как против Есенина было возбуждено уголовное дело.
По воспоминаниям современников, больше всего С. Есенин боялся милиции и суда. 29 октября 1925 года он был вызван в 48-е отделение милиции Москвы, где ему пришлось писать показания о происшедших событиях в поезде 6 сентября 1925 года, а потом дать подписку о явке в судебные органы по первому требованию. С. Есенин обращался за помощью к наркому А. В. Луначарскому, другим авторитетным друзьям. Ничего не помогло. После обсуждения в семейном кругу было решено направить С. Есенина в больницу, так как лиц, находившихся на лечении, не имели права судить. 26 ноября 1925 года поэт оказался в клинике.
Клиника была платной. 27 ноября Сергея навещает Софья Андреевна, о чем свидетельствует выданная врачом записка «К Есенину — жена. Аронсон. 27.ХI.25». Она оплачивает первый взнос за лечение 120 рублей. На следующий день была внесена доплата в сумме 30 рублей. С деньгами было сложно, но Софья Андреевна смогла собрать нужную сумму. Была выдана и справка, оберегающая С. Есенина от вызова в суд: «Ноября 28 дня 25 года. Удостоверение. Контора Психиатрической Клиники сим удостоверяем, что больной Есенин С.А. находится на излечении в Психиатрической клинике с 26 ноября с.г. по настоящее время. По состоянию своего здоровья не может быть допрошен на суде. Ассистент клиники (подпись)».
«Последний раз я видела Есенина в ноябре 1925 года, — вспоминала А. Миклашевская, — перед тем, как он лег в больницу. (…). В дверях остановился:
— Я ложусь в больницу, приходите ко мне.
Я ни разу не пришла. Думала, там будет Толстая…»
Миклашевская не знала, что С. Есенин нередко запрещал Софье Андреевне бывать в клинике.
Свой характер Есенин проявил в первые дни лечения. Софья Андреевна ежедневно посещает в клинике мужа. Вечерами в настольном календаре делает отметки:
26 ноября. Четверг. Сергей лег в клинику. В 4 часа у него.
27 ноября. Пятница. В 1 час у Сергея.
28 ноября. Суббота. В 4 часа у Сергея.
29 ноября. Воскресенье. У Сергея с Катей, Шурой и Наседкиным.
30 ноября. Понедельник. В 1 час у Сергея. У доктора. В 4 часа у Сергея.
1 декабря. Вторник. У Сергея. Трудный день.
2 декабря. Среда. 1-й разговор о расхождении.
«Поэт заболел белой горячкой и был помещен в психиатрическую больницу профессора Ганнушкина.
Софья Андреевна навещала его в больнице в те часы, когда он приходил в себя. Подолгу просиживала она в ожидании, когда он скажет ей хоть одно слово.
Но поэт упорно молчал. С заплаканными глазами возвращалась жена домой, без конца спрашивала себя:
— За что он так ненавидит меня?»
Софья Андреевна помогала друзьям навещать Есенина, выдавая им подписанные записки: «В психиатрическую клинику. Дежурному врачу. Прошу Вас пропустить на свидание к моему мужу С. А. Есенину, его друга И. М. Касаткина».
Сергей Есенин изредка пользовался услугами жены. 9 декабря 1925 года он пишет записку: «Соня! Пожалуйста, пришли мне книжку Б. С. Есенин». Через десять дней советует жене: «Соня. Переведи комнату на себя. Ведь я уезжаю и потому нецелесообразно платить лишние деньги, тем более повышенно». С. Есенин передал И. Касаткину текст законченного в клинике стихотворения «Какая ночь! Я не могу…»
Какая ночь! Я не могу…
Не спится мне. Такая лунность!
Ещё как будто берегу
В душе утраченную юность.
Подруга охладевших лет,
Не называй игру любовью.
Пусть лучше этот лунный свет
Ко мне струится к изголовью.
Пусть искаженные черты
Он обрисовывает смело, —
Ведь разлюбить не сможешь ты,
Как полюбить ты не сумела.
Любить лишь можно только раз.
Вот оттого ты мне чужая,
Что липы тщетно манят нас,
В сугробы ноги погружая.
Ведь знаю я и знаешь ты,
Что в этот отсвет лунный, синий
На этих липах не цветы —
На этих липах снег да иней.
Что отлюбили мы давно,
Ты — не меня, а я — другу,
И нам обоим все равно
Играть в любовь недорогую.
Но все ж ласкай и обнимай
В лукавой страсти поцелуя,
Пусть сердцу вечно снится май
И та, что навсегда люблю я.
Прочитав стихотворение, И. Касаткин сказал С. Борисову: «Это прощание с Соней…»
14 декабря С. Есенин выбрался из клиники на один день. Между ним и Софьей Андреевной произошел неприятный разговор. Соня не сдержалась и передала Есенину записку: «Сергей, ты можешь быть совсем спокоен. Моя надежда исчезла. Я не приду к тебе. Мне без тебя очень плохо, но тебе без меня лучше. Соня»
Возможно, что именно в это время С. Толстую встретил М. Ройзман: «Осенью 1925 года я сел в трамвай возле Арбатской площади, опустился на скамью и увидел, что напротив меня сидит С. А. Толстая. Я спросил, как её здоровье, и, получив ответ, поинтересовался жизнью и работой Есенина, которого не видел с лета. Толстая ответила, что она ничего общего с ним не имеет».
Но уже 18 декабря Софья Андреевна посетила Есенина, о чем записала в календаре. Оставить его без внимания она не могла.
Свою горькую и трудную любовь позже Софья Андреевна оправдывала в письме к матери, которой напишет: « Потом я встретила Сергея. И поняла, что это большое и роковое. Как любовник он мне совсем не был нужен. Я просто полюбила его всего. Остальное пришло потом. Я знала, что иду на крест, и шла сознательно, потому что ничего в жизни не было жаль. Я хотела жить только для него. Я себя всю отдала ему. Я совсем оглохла и ослепла, и есть только он один. Если вы любите меня. то я прошу вас ни в мыслях, ни в словах никогда Сергея не осуждать и ни в чем не винить. Что из того, что он пил и пьяным мучил меня. Он любил меня, и его любовь все покрывала. И я была счастлива, безумно счастлива… Благодарю его за все, и все ему прощаю. И он дал мне счастье любить его. А носить в себе такую любовь, какую он, душа его, родили во мне, — это бесконечное счастье ».
Неожиданно для многих С. Есенин самовольно прекратил лечение и 21 декабря покинул клинику. В этот же день он явился домой совершенно пьяный с бутылкой в руках. Вечером с пьяными друзьями был в Доме Герцена.
21 декабря С. А. Толстая записала в дневнике: «Сергей вышел из клиники. В 2 часа ушел из дому. Вернулся в 1 час ночи».
Нетрезвым видели его и на следующий день. «Сергей в 4 часа дня ушел из дому, — отметила на листочке календаря С. Толстая, — Вернулся в 4 часа ночи с Евг. Соколом».
В эти же дни С. Есенин зашел проститься к Анне Изрядновой. На её вопрос: «Что? Почему?» ответил: «Смываюсь, Уезжаю, чувствую себя плохо, наверное, умру». Попросил ее не баловать, беречь сына Юрия.
Сергей Есенин выехал в Ленинград вечером 23 декабря 1925 года. Перед отъездом он встречался и прощался с друзьями.
И. В. Евдокимов: вспоминал: «В десять часов утра 23 декабря я пришел на службу. Секретарь отдела сказал:
— Здесь с девяти часов Есенин. Пьяный. Он уезжает в Ленинград. Пришел за деньгами. Дожидался вас… (…)
Поздоровались. И сразу Есенин, садясь рядом и закуривая, заговорил:
— Евдокимыч, я вышел из клиники. Еду в Ленинград. Совсем, совсем еду туда. Надоело мне тут. Мешают мне. Я развелся с Соней… с Софьей Андреевной. Поздно, поздно, Евдокимыч! Надо было раньше. А Катька вышла замуж за Наседкина. Ты как смотришь на это?
И Есенин близко наклонился ко мне.
— Что же, — ответил я, — это твое личное дело, Тебе лучше знать. Я не знаю…»
В этот же день состоялся разговор С. Есенина с писателем А. И. Тарасовым-Родионовым, у которого летом поэт с друзьями гостил на подмосковной даче в Малаховке.
Свои воспоминания о встрече и разговоре с поэтом А. И. Тарасов-Родионов написал сразу же после смерти С. Есенина, а затем рукопись передал редактору Госиздата И. В. Евдокимову, взяв с него слово «никому никогда не показывать, пока не встретится (через много лет) надобность в этом». И. Евдокимов прочитал и записал свое мнение: «Я прочитал сегодня же, 20 января 1926 года. Тарасов никогда не вызывал во мне доверия, но тут есть зерна правды, только зерна». Рукопись долго была засекречена, так как А. И. Тарасов-Родионов в 1938 году был арестован и расстрелян. Впервые воспоминания Тарасова были опубликованы в 90-е годы в Париже, а после и в России. Предупреждение И. Евдокимова о «зернах» правды распространяется и на мнение Есенина о С. Толстой, о любви к ней и о его отношении к женщинам:
«Это было за два дня до праздников. В среду, 23 декабря, стоял серый пасмурный день оттепели. Я сидел, занимаясь своей редакционной работой, в отделе художественной литературы. Была половина одиннадцатого, когда из соседней комнаты я услышал хрипловатый голосок Есенина, разговаривавшего с нашим Евдокимовым о получении из кассы тысячи рублей в счет гонорара за издаваемое Госиздатом полное собрание его сочинений. (…). Заинтересованный его отъездом, я вышел и увидел Есенина, уже выходящим в коридор. (…). Уходить со службы в неурочное время было неудобным и я предложил ему посидеть со мной в той комнате, где я работаю.
— Нет, нет, здесь неудобно, — протянул он, болезненно скривившись и отмахнув рукой, — пойдем, кацо, вниз на угол, в пивнушку, там и посидим. Это здесь рядом». В пивной состоялся разговор, который и был впоследствии записан Тарасовым-Родионовым. Беседа началась с выяснения личных отношений. С. Есенин спросил собеседника: «Почему же ты говоришь мне, что у меня есть поступки, за которые ты меня не уважаешь?». А. И. Тарасов-Родионов разъяснил:
— Ты прости мне, Сережа, я имел в виду твои отношения к некоторым женщинам. В частности, к твоей последней жене, Софье Андреевне, с которой ты, как говоришь, теперь разошелся, а во-вторых, если хочешь, к Дункан. Конечно, сердцу в любви не прикажешь, но я помню, когда ты пришел и сообщил мне о своей женитьбе, то ты сказал тогда так искренне и восторженно: «Знаешь, я женюсь! Женюсь на Софье Андреевне Сухотиной, внучке Толстого!» Не скажи ты последнего, я ничего плохого и не подумал бы. А тут я подумал: Есенин продает себя, и за что продает?! А второе — это Дункан.
— Нет, друг, это неверно! — схватился Есенин с болезненной и горячей порывистостью.
— Нет, Дункан я любил. Только двух женщин я любил, и второю была Дункан. И сейчас ещё искренне люблю её. Вот этот шарф, — и он любовно растянул свой красивый шелковый шарфик, — ведь это её подарок. А как она меня любила! И любит! Ведь стоит мне только поманить её, и она прилетит ко мне сюда, где бы она ни была, и сделает для меня всё, чтобы я ни захотел. А Софью Андреевну… Нет, её я не любил. И сейчас с ней окончательно разошелся. Она жалкая и убогая женщина. Она набитая дура. Она хотела выдвинуться через меня. Подумаешь, внучка! Да и Толстого, кацо, ты знаешь, я никогда не любил и не люблю. А происхождение кружило её тупую голову. Как же остаться вне литературы? И она охотилась за литераторами. Как-то затащил меня к себе Пильняк, она с ним тогда жила. Тут же я с ней и сошелся. А потом… женился. Опутали они меня. Но она несчастная женщина, глупая и жадная. Ведь у неё ничего не было. Каждую тряпку пришлось ей заводить. Я думал было…, но я ошибся и теперь разошелся с ней окончательно. Но я себя не продавал. А Дункан я любил, горячо любил. Только двух женщин любил я в жизни. Это Зинаиду Райх и Дункан. А остальные… Ну что ж, нужно было удовлетворять потребность, и удовлетворял… Ты, наверное, сидишь и думаешь, если любил, то почему же разошелся с теми, любимыми?
Я молча кивнул глазами, а он гримасливо склонил голову вбок, долил стакан пивом и продолжал:
— В этом-то вся моя трагедия с бабами. Как бы ни клялся я кому-нибудь в безумной любви, как бы я ни уверял в том же сам себя, — всё это, по существу, огромнейшая и роковая ошибка. Есть нечто, что я люблю выше всех женщин, выше любой женщины, и что я ни за какие ласки и ни за какую любовь не променяю. Это искусство. Ты, кацо, хорошо понимаешь это. Давай поэтому выпьем.
Желтая прозрачная жидкость жадно ушла в его осипшее белесое горло, увлажнив на мгновенье его тонкие, посиневшие губы.
— Да, кацо, искусство для меня дороже всяких друзей, и жен, и любовниц. Но разве женщины это понимают, разве могут они это понять? Если им скажешь это — трагедия. А другая сделает вид, что поймет, а сама норовит по-своему. А ведь искусство-то я ни на что и на кого не променяю… Вся моя жизнь, кацо, — это борьба за искусство. И в этой борьбе я швыряюсь всем, что обычно другие, а не мы с тобой, считают за самое ценное в жизни. Но никто этого не понимает, кроме нас, и никто не хочет этого признавать. Все хотят, чтобы мы были прилизанными, причесанными паиньками».
23 декабря Софья Андреевна сделал последнюю запись в календаре: «В 9 часов ушел. Вернулся в 5 часов дня и уехал».
Решение о поездке в Ленинград С. Есенин считал наилучшим выходом из сложившейся в его жизни кризисной ситуации. Он возлагал на свой переезд большие надежды. Никаких возражений он не принимал. Да и мало кто пытался его переубедить, зная своенравный характер Есенина. Не могли удержать его и близкие родственники. «23 декабря, зайдя к С. А. Толстой, часов в шесть, слышу звонок, — вспоминал В. Наседкин. — Открываю дверь. Входит Есенин и, не поздоровавшись, идет в комнату. Вещи готовы. Все уложено в чемоданы. Перед выходом Есенин дает мне госиздатовский чек на семьсот пятьдесят рублей — он не успел сегодня заглянуть в банк и едет в Ленинград почти безе денег. Попросил выслать завтра же»
Эту же сцену запомнила и сестра поэта Александра: «23 декабря под вечер мы сидели втроем у Софьи Андреевны: она, Наседкин и я. Часов в семь вечера пришел Сергей с Ильей. Сергей был злой. Ни с кем не здороваясь и не раздеваясь, он сразу же прошел в другую комнату, где были его вещи, и стал торопливо все складывать как попало в чемодан. Уложенные вещи Илья, с помощью извозчиков, вынес из квартиры. Сказав всем сквозь зубы «до свидания», Сергей вышел из квартиры, захлопнув за собой дверь.
Мы с Софьей Андреевной сразу же выбежали на балкон. Был теплый, тихий вечер. Большими хлопьями, лениво кружась, падал пушистый снег. Сквозь него было видно, как у парадного подъезда Илья и два извозчика устанавливали на санки чемоданы. Снизу отчетливо доносились голоса отъезжающих… После того как были размещены на санках чемоданы, Сергей сел на вторые санки. У меня вдруг к горлу подступили спазмы. Не знаю, как теперь мне объяснить тогдашнее мое состояние, но я почему-то вдруг крикнула: — Сергей, прощай!
Подняв голову, он вдруг улыбнулся мне своей светлой, милой улыбкой, помахал рукой, и санки скрылись за углом дома. Мне стало как-то невыносимо тяжело в опустевшей квартире».
Софья Андреевна тяжело переживала отъезд мужа в Ленинград. О её состоянии О. К. Толстая писала подруге: «Вдруг 23-го вечером звонит Соня и говорит: «Он уехал» — «Кто?» — спрашиваю. «Да Сергей». И тут в первый раз она мне откровенно рассказала про него и то, что она пережила за эти дни. Одним словом творилось что-то ужасное. И, наконец, сорвался, захватил все свои сундуки и заявил, что уезжает в Петербург. Так как это было уже в третий раз, что «он уезжал», то никто не придал этому особого значения. При этом был совершенно пьян. (…) И в первый раз в голосе Сони я почувствовала усталость, досаду, оскорбление. «Надеюсь, что он больше не вернется», — на что Соня сказала: «Тебе легко говорить, а ведь я люблю его». Я возразила: «Но ведь ты же видишь, что с ним жить невозможно, что это совсем больной человек и даже опасный». Я посоветовала Соне поехать отдохнуть, встряхнуться, ну хотя бы в Ясную Поляну, но она сказала, что если поедет куда, то только в Петербург к своей подруге, но боится, чтоб он не вообразил, что она бегает за ним. Удерживало её ещё полное отсутствие денег, он не оставил ни копейки, да и до этого она задолжала прислуге и за три месяца квартиры (он абсолютно не давал ей денег, кроме как на траты на еду и вино, а получал больше тысячи рублей в месяц). Дня через (три) два я вернулась домой. Соню я застала страшно мрачной, совершенно безжизненной: она днями лежала на диване, не говоря ни слова, не ела, не пила до позднего вечера, была совершенно апатичной ко всему. Видя её такой, я прямо испугалась и дала телеграмму Александре Львовне (Толстой — С.З.), чтоб она её вытребовала в Ясную Поляну, как бы по делу…»
Весть о трагической гибели С. Есенина ошеломила Софью Андреевну. Об этом страшном для неё дне рассказала своей подруге О. К. Толстая: «28-го я отсутствовала почти весь день, и когда вернулась вечером домой, то была встречена ужасной вестью: без меня кто-то вызывал меня по телефону, но подошла Соня, и ей сообщили об ужасной смерти Есенина. По счастью, тут находилась одна её хорошая подруга, которая помогла ей пережить первые минуты. Соня сперва страшно закричала, не хотела верить, стала, как безумная, затем быстро взяла себя в руки и стала собираться в Петербург вместе с одним молодым «поэтом» (В. Ф. Наседкиным — С.З.), только что женившимся на сестре Есенина. (А его сестра (А. А. Есенина — С.З.) и двоюродный брат (Илья Есенин — С.З.) как раз в сочельник уехали к себе в деревню, куда им послали телеграмму). На дорогу ей пришлось опять занять у прислуги. Когда я пришла, они уже уехали…».
Софья Андреевна в Ленинграде принимала непосредственное участие в выполнении необходимых ритуальных обрядов. П. Н. Лукницкий вспоминал о событиях 29-30 декабря 1925 года: «Утром приехала Софья Андреевна Толстая-Есенина на автомобиле с М. Шкапской… — приехали в Госиздат, а затем в Обуховскую (больницу). Шкапская неотлучно была с Софьей Андреевной весь день: они вдвоём хлопотали у тела. Софья Андреевна получила разрешение взять чистое белье из запечатанной комнаты — из чемодана Есенина. Купила легкие туфли. Омывали, одевали тело… В 5 часов вечера в помещении Союза писателей (Фонтанка, 50) была назначена гражданская панихида. Около 6 часов привезли из Обуховской тело… В течение часа длилось молчание. Никто не произносил речей. Толпились, ходили тихо… Софья Андреевна стояла со Шкапской у стены — отдельно от всех. Около 7 часов вечера явился скульптор (Золотаревский)… Низенький, коренастый, безволосый мастер в переднике засучил рукава и занялся своим делом. Софья Андреевна со Шкапской сидели в креслах в углу, у печки. Софья Андреевна с виду — спокойная (Шкапская потом говорила, что она — оцепенела). Когда энергичным движением руки мастер бросил на лицо Есенина мягкую, расползающуюся массу гипса, Софья Андреевна заплакала. На несколько секунд, может быть…»
 29 декабря 1925 года ленинградцы прощались с поэтом. «На Фонтанке, в помещении Всероссийского Союза писателей, — вспоминал поэт Н. Браун, — в комнате налево от входа стоял гроб с телом Есенина. Собрались писатели: К. Федин, В. Шишков, Б. Лавренев, М. Казаков, Н. Никитин, С. Семенов, И. Садофьев, М. Комиссарова и др. Пришел Николай Клюев. Приехала жена Есенина — С. Толстая. Был директор Госиздата поэт Илья Ионов, который руководил дальнейшей церемонией проводов».
29 декабря 1925 года ленинградцы прощались с поэтом. «На Фонтанке, в помещении Всероссийского Союза писателей, — вспоминал поэт Н. Браун, — в комнате налево от входа стоял гроб с телом Есенина. Собрались писатели: К. Федин, В. Шишков, Б. Лавренев, М. Казаков, Н. Никитин, С. Семенов, И. Садофьев, М. Комиссарова и др. Пришел Николай Клюев. Приехала жена Есенина — С. Толстая. Был директор Госиздата поэт Илья Ионов, который руководил дальнейшей церемонией проводов».
В этот же день С. А. Толстой-Есениной передали письмо от А. Ф. Кони: «Дорогая и многострадальная Софья Андреевна — только сейчас, лежа в постели, больной, я прочитал во вчерашней газете о горе, обрушившемся на Вас в такой трагической форме. Мое сердце, привыкшее в последнее время к вестям о человеческих страданиях, содрогнулось за Вас, такую еще недавно жизнерадостную и счастливую, и я спешу выразить Вам всю глубину моего участия, скорби и боли за Вас. Не буду говорить Вам слова утешения. «Слова, всегда слова, — говорил подавленный горестью Отелло, — и я не слыхал еще, чтобы растерзанное сердце можно было уврачевать через ухо». Но я хочу сказать Вам, что более, чем когда-нибудь, грущу, что меня нет в Москве, чтобы прийти к Вам и дать Вам излить свою наболевшую душу. Боюсь, что церемонии и словоизвержения, о которых оповещают газеты, еще более растравят раны Вашего сердца, и молю Бога (столь несовременного и забытого теперь) облегчить Вас и послать Вам душевное умиротворение. Когда для Вас настанет снова текущая жизнь — черкните мне словечко о себе, зная, что я нуждаюсь в нем из сердечного, любящего к Вам участия. Простите, что пишу мало. Очень не в порядке сердце».
Софья Андреевна получила телеграмму из Баку от П. И. Чагина: «Гибель Сергея ошеломила невозможно жутко жаль общее мнение хоронить нужно Москве чтобы все подлинные друзья могли отдать последнее прости — Чагин».
П. Лукницкий описал последние часы прощания ленинградцев с Есениным: «Колесница стояла внизу. Стали собираться в путь. Товарный вагон… был уже подан. Поставили гроб в вагон — пустой, тёмный… Софья Андреевна и Шкапская вышли из вагона и стали бродить по платформе… Около 11 вечера… поезд был уже подан, и вагон с гробом прицепили к хвосту. В 11.15 поезд отошел»
На перроне Московского вокзала Софья Андреевна попрощалась с друзьями. М. Шкапская передала ей записку: «Приезжайте сюда, если можете, дорогая. С ужасом думаю о той пытке, какую Вы сейчас выносите, и какая ещё начнется, когда и этого его не станет. Если б только помнить, что уходящие живы, и только от нас — от памяти нашей — зависит их сделать живыми навсегда, бессмертными. Может быть иного и нет бессмертия. Вы такая ещё юная, Соня, а уже такая богатая, потому что и скорбь наша тоже богатство. Вы уже это и сами знаете. Пустые балаболки все эти слова. Лучше просто реветь в голос и ничего больше!»
В специальном вагоне гроб с телом С. Есенина был перевезен в Москву. С покойным поэтом  30 декабря в московский Дом печати пришли прощаться многие любители русской поэзии. «Большая, почему-то скудно освещенная комната, где стоял гроб с телом Есенина, была полна народу, и пробраться вперед стоило труда, писал Д. Н. Семеновский. — Голоса были негромки, дальние углы комнаты тонули в полумраке, только гроб был освещен. Всё время менялся почетный караул.
30 декабря в московский Дом печати пришли прощаться многие любители русской поэзии. «Большая, почему-то скудно освещенная комната, где стоял гроб с телом Есенина, была полна народу, и пробраться вперед стоило труда, писал Д. Н. Семеновский. — Голоса были негромки, дальние углы комнаты тонули в полумраке, только гроб был освещен. Всё время менялся почетный караул.
В глубине комнаты сбились в траурную группу близкие Есенина. Понуро сидела на диване, уронив на опущенное лицо прядь коротких волос, бывшая жена поэта Райх. Кто-то утешал С. А. Толстую. Немного поодаль выделялась среди других своим крестьянским обличием не спускавшая глаз с гроба пожилая женщина — мать Есенина, Татьяна Федоровна».
Этот день О. К. Толстая описала в письме Р. А. Кузнецовой: «Соню я впервые увидела 30-го в Доме печати, куда с вокзала привезли тело. Толпа была невероятная, с 5 часов и всю ночь была очередь, стоявшая на улице, желавших повидать и проститься с ним. По-видимому, его любили, так как очень многие плакали, не только дамы. Не могу сказать, чтоб я шла туда с хорошим чувством. Я слишком страдала и возмущалась за дочь, но главным образом меня возмущали эти его «друзья», проливающие теперь крокодиловы слёзы, а, в сущности, много повинные в его гибели и болезни. Я так и заявила двум-трем из них и решила, что некоторым из них руки не подам. Его мне было жалко, только как погибшего человека, и уже давно погибшего. Но когда я подошла к гробу и взглянула на него, то сердце моё совершенно смягчилось, и я не могла удержать слёз. У него было чудное лицо (несмотря на то, что какие-то мокрые и прилизанные волосы очень меняли сходство), такое грустное, скорбное и милое, что я вдруг увидела его душу и поняла, что, несмотря на всё, в нём была хорошая, живая душа. Я пошла искать Соню и встретилась с ней в другой комнате. Она бросилась ко мне со словами: «Мамочка, прости ему!» — и обхватила меня. Я могла только плакать, посадила её около себя, она положила свою горемычную голову ко мне на колени, и мы долго так сидели, и я гладила её голову и спину. Она не рыдала, а как-то замерла. Потом пришел Владимир Георгиевич (Чертков — С.З.) и Антон Григорьевич (слуга Чертковых — С.З.), и Соня очень была тронута этим, обнимала их, хотя и не говорила ничего. Тут при мне была гражданская панихида (артисты Качалов и Книппер из Художественного театра читали его стихи), а рано утром родители его отслужили панихиду. Я пробыла с Соней до 2-х часов ночи, и она осталась там с друзьями на всю ночь. Когда я пришла на другое утро, то народу было опять много. Соня стояла как каменная, ни слезинки, ни вздоха. Кругом рыдали дамы, с некоторыми делались обмороки, тут была и его первая законная жена (были и незаконные) с двумя детьми, которая держала себя крайне демонстративно и театрально — она актриса, жена известного артиста Мейерхольда. Они всё время подносили детей к гробу, девочку заставили читать стихи Пушкина! Всё это было фальшиво и тяжело. Соня же стояла тихо, скромно, почти незаметная, но когда пришел момент её прощания, то я не смогла смотреть и отвернулась — такая мука и отчаяние были в её взоре, когда она нагнулась к нему и не отрываясь смотрела на его лицо, как бы запечатлевая его черты! И так всю дорогу на кладбище и после похорон — она была как каменная, точно отсутствующая. Но когда я увидела её лицо, когда она уже шла от могилы, то я ужаснулась — такое оно было старое, обтянутое, желтое. Она только попросила никого не подходить, с ней не разговаривать. Села с одной подругой в автомобиль и уехала к ней. С тех пор я видела её только один раз. Она не могла вернуться домой, ей было слишком тяжело, тяжело было видеть и близких».
Чаще Софья Андреевна в эти трудные для нее дни находила приют в доме И. М. Касаткина. «Все эти недели я живу как с перешибленным хребтом, так потрясло случившееся, — писал 16 января 1926 года И. М. Касаткин И. Е. Вольнову. — И каждый день, как во сне, мы тут травим и травим свои раны воспоминаниями о Сергее бесконечными. Софья Андреевна, жена его, все время ночует у нас, боясь еще идти на свою квартиру, — и мы проговариваем ночи напролет… (…) Смерть его огромно всколыхнула тут весь народ. На бесконечные траурные вечера его памяти народ валит в таком количестве, что милиция не справляется: крик, рев, давка…через день устраивает вечер Художественный театр, выступит Луначарский. В этом массовом движении публики вокруг гибели Сергея я вижу не только любовь к его поэзии, — нет, тут, мне кажется, невидимо скрещиваются некие шпаги… Да, мы просчитались в Сергее!»
В 1926 году Софья Андреевна стала работать в Литературном музее Союза писателей. Ее квартиру в Померанцевом переулке посещают поэты, артисты, художники, которые любили Есенина и высоко ценили его поэзию.
После смерти Сергея Есенина недоброжелателями стали распространяться сплетни о взаимоотношениях Софьи Андреевны с покойным мужем, о якобы уже давно состоявшемся её разводе с Есениным. Для неё было полной неожиданностью известие о том, что Сергей Есенин оставил не ей, а своей сестре Кате доверенность на ведение всех его дел и на литературное наследство. Она не стала спорить с Екатериной Александровной Есениной, но предложила рассмотреть вопрос о создании фонда имени Есенина на базе доходов с изданий поэта. Сама С. А. Толстая-Есенина отказалась от пожизненной пенсии, предоставив её всю старикам-родителям и младшей сестре покойного мужа.
Много сил и стараний приложила С. А. Толстая по сбору, систематизации и изданию литературного наследия С. А. Есенина. 11 января 1926 года она писала подругам М. Шкапской и И. Карнауховой в Ленинград: «Теперь у меня к вам обеим большая, очень большая просьба, Пожалуйста, соберите для меня в СПб всё относящееся к Сергею: фотографии, рисунки, печатное (из газет и журналов, задним числом). Вы меня простите, что я вас так прошу. Мне очень неловко. Но на Вашу помощь я больше всего надеюсь. А мне всё дорого. Деньги или вышлю, или привезу». Она нашла поддержку в литературном мире. В марте 1926 года Софья Андреевна принимает участие в открытии при Доме Герцена «Есенинского уголка», который в дальнейшем получил официальное название «Музей жизни и творчества Есенина при Литературном музее Всероссийского Союза писателей», где она стала сотрудником и главным хранителем. После закрытия этого музея в 1929 году С. А. Толстая-Есенина была назначена пожизненной хранительницей есенинских материалов.
Софья Андреевна участвует в подготовке выставки к первой годовщине со дня смерти С. Есенина. Постоянно ищет новые  материалы. Она узнала, что в Ленинграде имеется портрет поэта, сделанный художником в морге. Пишет М. Шкапской: «Вы мне говорили, что знаете того художника, который писал Сергея в мертвецкой. Я до сих пор не могла добиться ничего, кроме его фамилии (Мансуров!?). Этот портрет ужасно меня мучает. Но это ведь никого не касается, кроме меня. Но через месяц в Союзе Писателей открывается Есенинская выставка, и мне очень хотелось бы, чтобы этот портрет был на выставке. Это дело общее»
материалы. Она узнала, что в Ленинграде имеется портрет поэта, сделанный художником в морге. Пишет М. Шкапской: «Вы мне говорили, что знаете того художника, который писал Сергея в мертвецкой. Я до сих пор не могла добиться ничего, кроме его фамилии (Мансуров!?). Этот портрет ужасно меня мучает. Но это ведь никого не касается, кроме меня. Но через месяц в Союзе Писателей открывается Есенинская выставка, и мне очень хотелось бы, чтобы этот портрет был на выставке. Это дело общее»
Пришлось обратиться за помощью к литературоведу П. Н. Медведеву, который побеседовал с художником, но не уговорил его передать безвозмездно портрет в Музей Есенина. «Мансуров соглашается прислать портрет Сергея Александровича только при приобретении его Музеем, — писал П. Медведев Софье Андреевне 23 декабря 1926 года. — Полагаю, что столь безапелляционная постановка вопроса объясняется крайней нуждой Мансурова. Его нужно понять и простить. Я предложил ему войти в непосредственные переговоры с Вами, что он, вероятно, уже и сделал».
Открытие выставки состоялось 27 декабря 1926 года, но на ней портрета работы Мансурова не было. Только в 1928 году картина была приобретена Музеем Есенина, о чем свидетельствует расписка художника: «Получено мною от Музея Есенина при Всероссийском Союзе Писателей полтораста (150 р.) рублей за этюд с Есенина, сделанный мною в покойницкой Обуховской больницы утром на второй день после его смерти, утром, до вскрытия».
Летом 1926 года Софья Андреевна по приглашению друзей выезжает на отдых в Крым. 4 июля 1926 года пишет в Ленинград А. Ф. Кони: «…Вы спрашиваете обо мне. Я поехала в Крым по настоянию моей матери и по усиленному приглашению моих друзей Волошиных. В Москве я измучилась и издергалась до последней крайности. Здесь рада избавлению от города, шума, дрязг. Но что такое отдых, я, кажется, больше не знаю. Не могу уйти от себя нигде и никогда. И здесь, среди чудесной, всегда мной любимой природы, это еще тяжелее. Очень страшно ощущать себя совершенно бесчувственной. Вся окружающая меня красота — их карточные декорации. И в первый раз в жизни я смотрю, но …не вижу. Только глазами. Какое-то огромное внутреннее онемение.
Здесь много людей, очень, очень милых. Ко мне относятся, как нельзя лучше. Но меня это только утомляет и раздражает. А когда я остаюсь одна, боюсь сойти с ума от своих мыслей.
Вот Вам, Анатолий Федорович, моя маленькая исповедь. Простите, если ненужно обременяю Вас ею. Но Вы спросили меня, и я не смогла и я не смогла не ответить Вам совершенно откровенно. Я еще очень сильная и владею собой. А с осени я надеюсь с головой уйти в работу, связанную с памятью мужа. К декабрю, к годовщине его смерти, мы хотим выпустить сборник воспоминаний и статей о нем. Я сейчас, путем переписки стараюсь собрать материалы и за этим же приеду осенью в Ленинград. До сентября я пробуду здесь…».
Душевного покоя в Крыму Софья Андреевна не находила. Об этом можно судить по её письму близкой подруге Е. Н. Николаевой: «О себе вот что: мне плохо, плохо. На пляже почти не могу лежать — сердце колотится, от купанья не сплю, от плаванья задыхаюсь, ветры издергали. Противопоказания: уже совсем черная, купаюсь три раза в день, улыбаюсь.
Сопоставь то и другое и выведи — стоило мне ехать в Коктебель? Ох, как я была права, когда не хотела ехать сюда. Людей — до черта! Все чужое и все ненужное и далекое. Я живу с Марусей, в ее комнате, проходной. Никогда я не могу за 10 минут вперед сказать, что я одна. Приходят, проходят. Хочется голову себе разбить. А уезжать некуда. Нет денег, мать в Судаке. Вернусь вдрызг разбитой. Одна надежда на. но это потом! Имейте терпенье. Как всегда, здесь — компания Габричевских, Шервинских и ихний огромный штат. И кроме — несколько пар, несколько одиноких и много, много женщин. Я со всеми хороша, определенно ни с кем. Женщин беру без промаха. С мужчинами разговариваю только с сильно женатыми. А то один уж стал мне голову на плечо класть при лунном свете — ну их к. Из женщин каждая думает, что она мой лучший друг, и каждая к каждой ревнует. А я их сражаю рассказом о своем настоящем друге — Жене Николаевой. Сегодня у меня кончился крупный флирт. Одна стерва, лезбиянка чистой воды, влюбилась, и извела она меня, сучья дочь! Всё совсем по-мужски, и ухаживанье, и разговоры, и такие взгляды! Я не знала, куда деваться, краснела и терялась. А сегодня она спросила а toute lettre — да или нет. И я сказала, что, конечно, нет и никогда. Обещала отстать. Вот г… собачье!».
Возвратившись в Москву, С. Толстая-Есенина была втянута в судебный процесс о разделе гонорара между наследниками за издаваемые произведения С. Есенина. Суд должен был определить юридические права всех претендентов на наследство поэта. Нередко судебные процессы сопровождались столкновениями и спорами между истцами. Тягостная история с дележом есенинского наследства продолжалась более двух лет после смерти поэта. Ф. А. Волькенштейн, хороший знакомый Толстых, писал Е. К. Николаевой 15 июля 1926 года: « Соня — бедняжка. Ее дело получило оборот безнадежный и скандальный: Мейерхольдиха и все мужички, “всем миром” прибывшие из деревни в суд, оспаривают действительность брака Есенина с Соней: он зарегистрировался с Соней, не расторгнув брака с Дунканшей. Так поэты устраивают благополучие своих близких! Ненавижу гениев и их великолепное презрение к земным мелочам и прозе! Кроме того, вся эта ватага требует, чтобы с Сони сняли фамилию “Есенина”. Этим мужичкам и еврейке Мейерхольдине невместно именоваться одинаково с внучкой Льва Толстого. Ох! Зубы сломаю, так скриплю зубами! А из Петербурга приехала еще одна жена усопшего гения и привезла еще одного сына. Пока не пишите Соне. Я составил Шапире осторожное письмо, чтобы не губить Соне отдыха. Дело отложено до 1-го сентября. »
Под « мужичками из деревни » подразумевались родители Есенина, « еще одна жена » — это Надежда Давыдовна Вольпин, а Шапиро, по-видимому, адвокат, защищавший права С. А. Толстой. Позднее Александра Есенина вспоминала: « Позорная тяжба за наследство длилась два с лишним года, и лишь после многих судебных разбирательств отец был установлен в правах наследования. (Суд все же учел, что в пятьдесят два года Александр Никитич “фактически был инвалидом и несколько лет жил на иждивении сына”.) Родители, перепуганные захватническими действиями Райх, боялись, что она может забрать у них все, что принадлежало Сергею. Но так как, кроме книг, у них почти ничего не было, они спрятали эти книги в подполье в амбаре. Весной это подполье залило водой, и книги все попортились » .
Софья Андреевна отстояла свои законные права. Она писала А. Ф. Кони 23 октября 1926 года: «…Я не писала, потому что очень была выбита из колеи — мой суд (кассационный еще продолжается), ремонт квартиры и болезнь…». Через месяц 22 ноября 1926 года сообщала в Ленинград: «…Я уже совершенно поправилась и выхожу, хотя чувствую себя не очень хорошо. И у меня много душевных неприятностей из-за процессов в связи с наследством моего мужа. Все это сложно и мучительно, и мне очень хотелось бы повидаться с Вами и все это рассказать и посоветоваться…».
С. Толстая-Есенина добилась отмены решения народного суда Кропоткинского участка Хамовнического района города Москвы о назначении З. Н. Мейерхольд-Райх «ответственной хранительницей имущества, оставшегося после умершего 28 декабря 1925 года Есенина Сергея Александровича». Софье Андреевне пришлось доказывать свои права законной жены. После нескольких судебных заседаний было принято постановление: «Все домашние вещи, оставшиеся в г. Москве, передать гражданке Софье Есениной, а находящиеся в Ленинграде передать детям — Татьяне и Константину».
Судебное разбирательство началось летом 1926 года, когда З. Н. Райх попыталась доказать незаконность регистрации брака С. Есенина и С. Толстой в связи с тем, что С. Есенин не был разведен официально с Айседорой Дункан и попадал под статью о двоеженстве. З. Н. Райх выступала не только против С. А. Толстой, но и против других «гражданских жен» Есенина, претендующих на законное право наследования, в частности, против Надежды Давыдовны Вольпин, у которой родился от Есенина сын Александр. Н. Д. Вольпин писала 16 июля 1926 года С. А. Толстой: «Я вчера присутствовала на суде лично… (…) Среди любопытных (их, к счастью, было немного) оказалась одна девица, т.е. ныне дама, из нашей гимназии, и она долго расспрашивала меня по-английски о присутствующих. Мне было неловко, и я втайне надеялась, что мать Есенина приняла английский за еврейский, что, может быть, несколько оправдало бы мою невольную бестактность. Всё равно, я для неё не мать её внука, а «какая-то жидовка», посягающая на часть её наследства. Адвокат Зинаиды Николаевны и Изрядновой беседовал с папа-Есениным, подготовляя, вероятно, и для того пилюлю вроде той, что преподнесли они нам. Когда выяснилось, что против нас имеется отвод, так как Райх начала дело о «двоежонстве» Есенина (глупая мещанка! — и я в тот же день узнала, что она член компартии! Забавно!) Наседкин соболезновал нам, жалел о вашем отсутствии. Катя же откровенно радовалась обороту дела, и у меня крепла уверенность, что она сыграла известную роль в этом подвохе, хотя и уверяла меня, что это на самом деле «совсем недавно обсуждалось». А мне было и смешно и тошно. Я почти не сомневаюсь, что для Зинаиды Николаевны здесь дело не в том, получить ли 2/9 или 2/8, а в том, чтобы вам «насолить» и доказать, что вы «ненастоящая жена». (…) Не падайте духом, милая Софья Андреевна, — в этом есть для вас и хорошая сторона, так как «обществу» позиция З. Н. должна показаться смешной и не слишком благородной».
В 1928 году З. Н. Райх подала апелляцию в Верховный Суд республики, но и здесь С. А. Толстая отстояла свои права. «Я выиграла, но лето она мне испортила» — писала Софья Андреевна М. Шкапской 15 августа 1928 года.
Душевное состояние дочери описала О. К. Толстая Волошиным 3 января 1927 года: «Конечно, на настроение Сони много влияло и это возмутительное дело, поднятое против неё в суде — о непризнании её брака. В первой инстанции она выиграла, тогда та сторона подала дальше. Губсуд вернул дело на пересмотр в нарсуд, который на этот раз вынес решение, неблагоприятное для Сони. Тогда Соня апеллировала в губсуд, который 23-го декабря отменил решение нарсуда. Не знаю, что будет теперь делать противная сторона. (…) Всё это отвратительно, возмутительно и мучительно тяжело. Соня никогда об этом со мной не говорит. Но благоприятный исход ей нужен потому, что без этого она не сможет принимать участие в издании, редактировании и т.п. сочинений Есенина, а это ей, по-видимому, страшно дорого».
Ситуация ухудшилась после развернувшейся в печати травли Есенина. Начало было положено публикацией статьи Л. С. Сосновского «Развенчайте хулиганство», напечатанной одновременно 19 сентября 1926 года в «Правде» и «Комсомольской правде». «С есенинщиной надо бороться, — призывал Л. Сосновский. — Уже прошел первый угар, вознесший этого свихнувшегося талантливого неудачника чуть не в великие национальные поэты… (…) Надо сказать, что есенинщина временами довольно дурно политически пахла.»
Команда была дана. В издательстве «Правда» выходит первый сборник статей против «есенинщины». В специально изданном номере литературно-критического журнала «На посту» творческая биография Есенина была связана только с «есенинщиной» в самом отрицательном смысле слова.
Друзья в эти дни стараются поддерживать Софью Андреевну. «Вам, родненькая моя, — писала из Ленинграда М. Шкапская 29 ноября 1926 года, — слишком уж, по-видимому, приходится тяжело. Что делают с именем Сергея Александровича, в какой только грязи его не волочат и к каким только идеологиям не пристегивают. Я знаю, Сонюшка, что обидеть и тронуть Вас глубоко это не может, но сколько должно было накопиться за эти месяцы жгучего отвращения к людям — отвращения до тошноты. И неужели ещё и Вас до сих пор мотают по всяким оскорбительным судам».
6 мая 1927 года Софья Андреевна писала А. Ф. Кони: «… Я так долго ничего не писала Вам о себе, во-первых, потому, что живу я ужасно скучно и грустно и не знаю, что из моей жизни можно рассказать. У меня отчаянный упадок и от этого я всю зиму болела всякими глупыми болезнями вроде гриппа и от общей пассивности, по-видимому, и им не могу сопротивляться. Мучительных, гадких и унизительных судов у меня было столько (4), что я стала к ним привыкать. До сего дня все это не кончается, и я нахожусь в постоянном ожидании повесток в суд».
По крупицам выискивала и собирала Софья Андреевна материалы о Есенине. Через три с половиной месяца после похорон С. Есенина, в середине марта 1926 года, С. А. Толстая-Есенина писала: «Я сейчас занята исключительно Музеем Сергея. Собираю туда всё, что могу. Говорю себе, что это для него, и убиваю время и мысли. Само музейное дело мне органически чуждо, но здесь всё очень уж дорого. (…) Странная судьба — что любимо, что жизнь, и … Музей!». Сохранение наследия С. Есенина, защита его имени от всевозможных нападок, стремление опубликовать произведения поэта стало главным делом всей дальнейшей жизни Софьи Андреевны. Она просила присылать если не оригиналы, то хотя бы копии произведений С. Есенина, его фотографии, воспоминания о нем. Пишет письма М. Горькому, чтобы он написал воспоминания о Есенине, посылает ему материалы о поэте.
В некоторых случаях приходилось приобретать для Музея экспонаты за соответствующую плату, а финансовых средств, выделяемых Союзом писателей, было мало. Друзья Есенина присылали материалы безвозмездно. Откликнулись Л. О. Повицкий, В. С. Чернявский, М. П. Мурашев И. Иванов-Разумник, Л. Л. Мацкевич, Д. К. Богомильский и др. Из Тифлиса прислали комплекты местных газет, в которых были опубликованы стихотворения С. Есенина, а также копии писем поэта к грузинским поэтам и друзьям. Из Ленинграда доставили копию посмертной маски Есенина. Изредка получала есенинские автографы. 9 октября 1926 года М. М. Шкапская записала в своем альбоме: «Рукопись «Песни о великом походе» Есенина — подарил Эрлих в хороший зимний дружеский вечер. (Х.26 г.). Рукопись отдана Соне Толстой для музея. Теперь её заменит письмо Троцкого».
 Софья Андреевна 3 сентября 1928 года записала в дневнике: «Получила рукописи 3-х неизвестных стихотворений Сергея и письмо. Господи, вот это моя радость, до дна чистая».
Софья Андреевна 3 сентября 1928 года записала в дневнике: «Получила рукописи 3-х неизвестных стихотворений Сергея и письмо. Господи, вот это моя радость, до дна чистая».
Очень переживала, расставаясь по разным причинам с музейными экспонатами. Пришлось отдать в Союз Писателей сделанный С. Т. Коненковым из дерева бюст Сергея Есенина. «Отвезла в Союз Коненкова, — записала 16 сентября 1928 года в дневнике, — И до чего же мне его не хватает! Еще кусочек Сергея ушел из моей жизни».
Постепенно работа по созданию Музея С. Есенина сворачивалась. Софья Андреевна тяжело переживала. 6 мая 1927 года она писала А. Ф. Кони: «Печать и руководящая общественность подняла дикую травлю на имя и творчество моего мужа, и сверх моральной тяготы это отражается практически, так как мешает мне развивать и расширять главную мою работу — в Есенинском музее. Эта работа кропотливая, трудная, но единственная моя работа. Отвечая на Ваш вопрос — я пишу воспоминания о моем муже, но не знаю, когда решусь их печатать. Пока это носит характер «сенсации», мне не хочется выступать, да и вообще мне очень трудно отдать в толпу то, что я имею. Кроме того, это очень сложно и ответственно, так как клеветы много, она очень глубока и задевает ряд вопросов, о которых не вполне удобно говорить. Главное же, что люди, у которых душа раскрыта ему, его творчеству, не поверят клевете. Остальных все равно не убедить».
Несмотря на развернувшуюся антиесенинскую кампанию, поэзия Сергея Есенина оставалась востребованной. Быстро разошлось четырехтомное посмертное издание «Собрания стихов и поэм» поэта, был осуществлен повторный выпуск «Собрания сочинений С. А. Есенина» под грифом «Библиотеки всемирной литературы» (М.-Л., 1927-1928), но читательский спрос не был удовлетворен.
К Софье Андреевне однажды в Толстовский музей пришел взволнованный и смущенный паренек «Я знаю, что Вы жена Есенина, что Есенин запрещен, — говорил юноша, — я страшно его люблю, он для меня — все. Я прошу, чтобы Вы разрешили мне читать его и делать выписки. Нас много товарищей. Я с преподавателем очень спорил». В дневнике Софья Андреевна записала: «Он с такой отчаянной мольбой и страхом смотрел на меня, что я назначила ему прийти в Музей».
С. А. Толстая и Н. Д. Вольпин ведут в сентябре-октябре 1928 года переговоры с Госиздатом РСФСР о подготовке к публикации нового Собрания сочинений Есенина. Но в издательстве теперь относятся к публикации произведений Есенина настороженно, несколько раз заставляют переделывать договор, настаивая, чтобы права на дальнейшие публикации должны быть переданы только Госиздату. «Ох, сколько они мне крови испортили, — записала в дневнике Софья Андреевна. — Неужели когда-нибудь выйдут эти книги и так, как я хочу. Это дурно так думать, но никому на свете нет дела до имени его. Как было плохо, когда было слишком много близких, и как грустно и страшно, когда я совсем одна».
Наконец 12 октября договор удалось подписать, но со значительными уступками издательству. В дневнике Софья Андреевна записала: «Подписала договор — 10 тысяч тираж, 1 р. 50 коп. строчка, 2 тысячи строк. Накануне опять торговалась с Сандомирским, хотела, чтобы они исключили пункт, по которому мы не имеем права продавать избранного, массового и т.п. никому, кроме ГИЗа. Не удалось. Заставила пойти с собой Катю и Шуру». Высшими партийными органами было принято решение о прекращении дальнейшей публикации произведений С. Есенина. 11 апреля 1929 года Н. Д. Вольпин писала С. А. Толстой: «Мне вчера передавали слухи — правда ли? — что наш договор (…) идет на нет — так как Есенин издаваться больше не будет по причинам ни от нас, ни от них (издателей) не зависящим. Это, конечно, никого не должно удивить…»
Документа о запрещении печатать произведения Есенина Софья Андреевна, вероятно, не видела, поэтому продолжает добиваться разрешения на публикацию произведений поэта. 18 июня 1929 года была на приеме у Председателя ВЦИК М. И. Калинина. Встреча оставила хорошее впечатление. М. И. Калинин сообщил, что запрета на публикацию произведений С. Есенина нет, просил принести официальное прошение из издательства «Федерация», куда была сдана рукопись сборника. Софья Андреевна после встречи оставила письмо М. И. Калинину: «В дополнение к личным моим переговорам с Вами (18/VI – 29 г.) и в подтверждение того, что Собрание сочинений С. А. Есенина действительно запрещено для печати, прилагаю при сем справку от издательства «Федерация» за №. Запрещение издания книг Есенина лишает его семью (родителей, сестер, детей) единственных средств к существованию и порочит имя Сергея Есенина как советского поэта. Поэтому я прошу Вас оказать мне содействие в получении разрешения на издание всех перечисленных в справке книг».
Летом 1929 года С. Толстая и Е. Есенина добились встречи с Максимом Горьким, приехавшим в СССР, но были разочарованы, так как состоялся не очень приятный разговор с писателем, который без энтузиазма отнесся к идее издания Есенина. Они не знали, что 13 июля 1925 года из Сорренто А. М. Горький писал Н. И. Бухарину: «Талантливый, трогательный плач Есенина о деревенском рае — не та лирика, которую требует время и его задачи, огромность которых невообразима». Пролетарский писатель и сейчас, при встрече, просил отложить рассмотрение вопроса на более благоприятное время. Расстроенная Софья Андреевна дома в дневнике записала разговор с М. Горьким:
«Ждали минут 15, потом провели в кабинет. Сидит за столом, пропасть бумаг, как-то суетливо, торопливо все на столе перебирает. Моложе, чем я думала. Усы рыжеватые, в голове небольшая проседь. Глаза большие, очень светло-голубые с какой-то прелестью. Во всем — некоторое очарование, привлекательность. Кашляет ужасно и плюет большие куски мокроты.
«В чем дело?» — «Пришли просить совета и помощи». Сделал вид, что ничего не знает. «Как запрещены, на словах или официальная бумага?» — «Вычеркнуто из плана «Федерации». — «Навсегда или временно?» — «Временно, но насколько — неизвестно». — «До осени ничего нельзя сделать». Указала на положение семьи и на требование читателей. «Главлит и Лебедев-Полянский совершенно самостоятельны, коллегия НКПр ничего не сможет сделать», — это он в ответ на то, что Луначарский принял близко к сердцу. Я спрашиваю его, что это — ЦК или Главлит. «ЦК ничего не запрещает, а может только Керженцев ругать книгу до выхода её, в своих выступлениях. Это результат кампании, поднятой Бухариным против Есенина». — «Во время травли вышло два издания, а сейчас эта волна схлынула». — «Травля не прекратилась, еще на днях я читал где-то». — «Это единичный случай». — «Ну все равно. Тогда пропустили эти два издания, по ошибке, по недосмотру цензуры. Есенину навредили очень и его друзья — Мариенгоф, Крученых». — «Это враги». — «Ну, да я говорю вообще о тех, кто писал о нем. На днях я уезжаю, вернусь через 6-7 недель. В августе можно будет начать хлопоты и тогда может удастся, потому что ожидаются перемены цензурные (не помню точно его слов об этом, но вообще смысл всего его разговора был таков, что с Лебедевым-Полянским нельзя договориться, а с августа не будет легче). Есенин не единичный случай — целый ряд книг ошибочно запрещен, вот и пьесы почему-то не разрешают». Об избранном. «Не разрешат ни в коем случае. Это будет квинтэссенция. Кто его будет составлять?» — «Издательство хотя бы». — «Разве можно доверить издательству? Они сделают такой выбор, что по всем городам молодежь будет валяться на улицах, разложенная Есениным». — (Попытка остроты). — И опять: «Ждите до августа». Уходим. Вслед Кате: «А на брата-то совсем не похожа». — Она молчала, злилась ужасно. Говорила мне, что нужно было сразу уйти, а мне хотелось распознать его. Он накануне говорил, по-видимому, с Керженцевым. Я не умею записывать разговоры. Конечно, все это шло не так отрывисто и сухо»
Настойчиво С. Толстая пробивала равнодушие и подозрительность издателей. В 1929 году в августе Издательство «Федерация» сообщило Софье Андреевне, что Главлит разрешил издать произведения С. Есенина в одном томе в 10 печатных листов. А. Тихонов писал С. Толстой: «Как Вы знаете, я предполагал вначале поместить в этом объеме максимальное количество, но, к сожалению, подсчеты показали, что сделать этого нельзя, так как при том высоком гонораре, который мы Вам обязаны платить, книжка будет неимоверно дорогой. Поэтому приходится объем книги ограничить количеством не более 4000 стихов, которые Вы и должны выбрать из всех произведений Есенина».
В 1931 году в Издательстве «Федерация» были напечатаны десятитысячным тиражом «Стихи и поэмы» Сергея Есенина. По цензурным соображениям в части тиража была изъята поэма С. Есенина «Песнь о великом походе» и дано новое оглавление.
В 1932 году Софья Андреевна ведет переговоры с А. К. Воронским, который хотел издать академического Есенина. С. Толстая оставляет ему доверенность на подписание договора. В этом же году Софья Андреевна встретилась с А. С. Енукидзе, к которому часто Толстые обращались с просьбами об освобождении из-под арестов знакомых и родственников. Получила с его стороны поддержку об издании «полного собрания сочинений» С. Есенина, но скоро сам Енукидзе оказался среди репрессированных.
В 1933 году «Московское Товарищество Писателей» добилось разрешения на издание «Стихотворений» Есенина. Один из руководителей заявил С. Толстой, что материал отбирать они будут самостоятельно, назначив редакторами Багрицкого, Асеева или Пастернака. На возражение Софьи Андреевны, что Асеев не может быть редактором, так как чужд Есенину, ей ответили: «Есенин всем нам чужд». Наконец, редактором был назначен В. Наседкин. Предисловие написал А. В. Луначарский, в котором С. Есенин был охарактеризован не с лучшей стороны. Это возмутило Софью Андреевну, она стала добиваться снятия предисловия. Обратилась к Евдокимову, но тот стал её успокаивать: «Ах, предисловия никто читать не будет! А с Луначарским «Московское Товарищество Писателей» ссориться не будет».
С. Толстая записала в дневнике: «В Доме Герцена ужасно набросилась на Наседкина. «Раз ты редактор, никто не вмешивался, что же ты наделал? Какое мы имеем право получать деньги за то, что над Сергеем издеваются?». Ездила к Вольпиной. Она: «Пусть. Это будет большой скандал только для Луначарского!» — Сказала о тоне Гронскому. Он — «Это совершенно не годится. Непременно дайте мне прочесть». Просила Герасимова выступить в Московском Товариществе Писателей. Он принял к сердцу, говорил с Тарпановым. На заседании редколлегии Наседкин докладывал, подчеркивая самые плохие места. Острогорский и Березовский ругали Есенина, что он вообще плох, вреден и никому не нужен. Беспартийные (трое) были за то, чтобы снять предисловие. Партийные (6-ро) пополам — три на три, плюс беспартийные. Предисловие сняли окончательно. Дадут или от издательства или Ефремова».
«Стихотворения» С. Есенина вышли в 1933 году тиражом 10 200 экземпляров. В книге «Вместо предисловия» написал А. Ефремин.
Целеустремленная работа помогала Софье Андреевне приглушить душевную обиду, частично забыть навалившиеся неприятности. Но она никогда не соглашалась с мнением, что поэзия Сергея Есенина должна уйти в небытие. По её глубокому убеждению, этого никогда не должно случиться.
С. А. Толстая-Есенина в предвоенные годы составила однотомник стихотворений С. Есенина, пытаясь его изданием прорвать блокаду замалчивания поэта на его Родине. «Не сразу удалось мне напечатать этот томик, — рассказывала она в 50-е годы Ю. Л. Прокушеву. — Я никак не могла пробиться в издательство. В конце концов я решила пойти к Калинину. Я помнила, с какой теплотой говорил мне Сергей о встрече с Калининым на родине Михаила Ивановича, в Тверском крае. Калинин меня принял хорошо. Живо интересовался делами толстовского музея. Во время беседы я сказал Михаилу Ивановичу, что никак не могу издать стихи моего мужа — поэта Сергея Есенина. Он задумался, долго молчал, словно что-то вспоминая, а возможно, что-то решая для себя в эти минуты… Потом посмотрел на меня «заговорщицки» и как-то очень по-доброму сказал: «Не унывайте! Есенина будут издавать». Радостно мне было услышать от Михаила Ивановича и то, что он, Калинин, лично Есенина, его стихи любил всегда и полагает, что современным нашим поэтам есть чему у Есенина поучиться. Михаил Иванович оказался прав… Через некоторое время, в сороковом году, вышел сборник Есенина с вступительной статьей Александра Дымшица. Мне же мой томик Есенина удалось выпустить лишь после войны, в сорок шестом году».
«Стихотворения и поэмы» С. Есенина в 1940 году были публикованы в малой серии «Библиотеки поэта» издательством «Советский писатель».
10 сентября 1941 года С. Толстая писала Н. В. Хлебниковой по поводу прекращения набора «Собрания произведений Сергея Есенина» под ее редакцией: «…огромным ударом было для меня то, что остановили мою книгу, вынули из типографии. Теперь придется ждать окончания войны».
В издании сборника С. Есенина большую помощь оказал директор Издательства художественной литературы П. И. Чагин. Книга «Избранное» С. Есенина, подготовленная С. А. Толстой-Есениной, вышла в Гослитиздате в 1946 году тиражом 57 тысяч экземпляров. Это издание имело большой успех у читателей и стало библиографической редкостью.
С. А. Толстая-Есенина продолжала собирать материалы о жизни и творчестве С. Есенина и в годы недоброжелательного отношения власти к поэтическому наследию поэта. А. Берзинь вспоминала: «У меня хранилась его (Есенина) две рукописи: «Песнь о великом походе» и «Двадцать шесть». Я отдала их Софье Андреевне Толстой в Музей, боясь потерять то, что принадлежало ему, Сергею». Анна Абрамовна слукавила, рукопись она не передала, а обменяла. С. А. Толстая в дневнике 26 декабря 1932 года записала: «Нынче в Дом Герцена приходила Берзина, после я звонила ей. Говорит: «Предлагаю товарообмен» — дает рукопись 36-ти в том варианте, когда она называлась «26», и за неё просит 4 тома ГИЗа. Торгует бессовестно, а я даже не могу выразить ей своего отвращения — боюсь отпугнуть и потерять его рукопись. Не могу отдать последние книги, и сердце разрывается — как же быть?». С трудом договорились».
Позже был получен не изданный рукописный сборник произведений С. А. Есенина, подготовленный в 1924 году к печати Г. Бениславской и Екатериной Есениной. Софья Андреевна записала при получении: «Сборник не был осуществлен и материал остался у Богомильского. Передал их мне в мае 1936 г. С. Есенина»
Свое 30-летие Софья Андреевна встречала с тяжелым настроением. «Скоро 30 лет, — писала она в Ленинград М. Шкапской, — а жизнь моя неправильная. — Иногда мне очень, очень страшно». Искала утешения в заочном общении с Есениным. «С утра ездила на кладбище, — записала в дневнике 30 июлю 1932 года. — Могила в ужасном виде. Какие-то посетители для того, чтобы писать на кресте, становились ногами на холмик, и он весь изломан, осыпается… Кору с клена вовсе ободрали и он засохнет.
Посадила всяких цветов, заказала новый дерн, дощечку, заплатила вперед до 1-го октября за уборку, всего на 50 руб. и немного успокоилась. Но все-таки мне стыдно, мутно, перед ним, перед собой, перед людьми. Странно, я очень люблю эту могилу, очень, и мне никогда не хочется уходить отсюда». Зимой, в день годовщины смерти С. Есенина, вновь ездила на Ваганьковское кладбище:
«Утром ездила на кладбище. Могила в снегу, кора с дерева совсем ободрана, — записала Софья Андреевна в дневнике. — Нашла сторожа, дала ему денег, увеличила плату. Он обещал смотреть лучше, и мне стало немного не так совестно. Все-таки я в чем-то здесь виновата, я могу и должна делать больше. А на его могиле мне всегда хорошо».
Постоянно думает о Есенине. Разговаривает с ним наедине, во сне и наяву. Софья Андреевна была уверена, что «в большой любви самое прекрасное — это одиночество вдвоем, удивительнейшее ощущение, что во всем огромном мире нет никого и ничего. Это то чувство, которое мы так знали и любили с Сергеем».
В дневнике 14 ноября 1932 года записала: «Видела во сне Сергея, живого, что он воскрес. Во сне он такой же со мной, какой бывал в жизни, когда трезвый, удивительный, ласковый, тихий, ясный. И я во сне любила его так же, как тогда, так же бесконечно, безумно и преданно. Пришли сестры, и всем нам было хорошо и весело. Нынче весь день ношу в себе сияние от него от своей любви к нему. (…) Господи, Сереженька мой, как я могу жить без него, и думать, что я живу, когда это только гнилая, затрепанная оболочка моя живет, а я ведь с ним погибла».
Годы пролетали. Многое вокруг менялось. Софья Андреевна понимала, что личное счастье обходило её стороной. Она замкнулась. 11 августа 1938 года М. М. Шкапская писала С. А. Толстой: «И подумала о том, что вот скоро поеду в Коктебель, где мы с Вами встретились. Какая Вы тогда была юная, Соня. Но — как странно — и даже тогда, в 22 года, в самом расцвете красоты, в пору женского цветения — никогда не были Вы счастливы. Несчастливые недобры. Но Вас это как-то не коснулось. Вы так добры по природе, что превозмогали эту злую традицию. Доброта лучилась из Вас и делала Вас всегда такой прекрасной.
Но вот последнее время я вдруг с грустью раза два заметила, что лучистость эта иногда погасает! Вернее, она становится — я б сказала — автоматической. Даже складочки у губ уже привыкли быть добрыми, но душа вдруг ушла из этого сияния. Как жизнь всё-таки ломает людей. Ну я, ну другие — мы были слишком жадны, слишком своевольны, мы, может быть, наказаны за дело. А вы? Девочка-Сонечка, такая русская — для меня всегда олицетворение всего, что я люблю в русском человеке, — такая простая, нетребовательная, настоящая, такая умница — почему эта девочка не нашла своей судьбы, своего счастья? Сколько бы Вы дали людям, если б были счастливы, если даже от такой Вас и то тепло? М. Шкапская».
Предвоенное трагическое десятилетие было тяжелым и сложным периодом в жизни Софьи Андреевны. Была лишена советского гражданства ее любимая тетя Александра Львовна Толстая, которая отказалась возвращаться домой из зарубежной командировки. Были арестованы из её близкого окружения Борис Пильняк, Николай Клюев, Василий Наседкин, Иван Приблудный, первенец Есенина Георгий (Юрий), Вольф Эрлих, Илья Ионов, Илларион Вардин, Всеволод Мейерхольд, которые погибли в застенках и лагерях.
После ареста Мейерхольда была зверски убита у себя в квартире Зинаида Райх — и это преступление осталось нераскрытым.
Софья Андреевна проявляла заботу о родственниках Сергея Есенина. Обратилась с письмом к А. Фадееву, чтобы он поддержал просьбу матери С.Есенина о снятии с нее налогов из-за бедности. А.Фадеев подписал письмо, но вместо освобождения полностью от налогов написал «часть налогов».
Узнав о тяжелом материальном положении Екатерины Александровны Есениной, которая после ареста и расстрела мужа была на поселении, предложила тут же ей помощь. Наталия Есенина пишет: «Когда мама переехала в Подмосковье, ей свою рабочую карточку отдавала Софья Андреевна Толстая, и мы с голоду не умерли».
Перед уходом в армию Константин Есенин отнес чемодан, набитый бумагами и редкими изданиями отца, на хранение Софье Андреевне Толстой, которая сберегла и возвратила ему после войны. Узнав о тяжелом материальном положении Татьяны Сергеевны, С. А. Толстая-Есенина в феврале 1944 года пишет письмо Н. С. Тихонову в Президиум Союза Советских писателей:
«Многоуважаемый Николай Семенович, обращаюсь к Вам с очень большой и горячей просьбой: скажите, чтобы послали через ССП вызов на въезд в Москву Татьяне Сергеевне Есениной, дочери Сергея Александровича. Она эвакуировалась в Ташкент с детьми и погибает там в тяжелейших материальных условиях.
Она молода, неопытна, ни к чему не привычна и в жизни не крепка. Наши сведения о ней гнетущие и тревожные. Необходимо срочно вызвать ее сюда, где родня, знакомые, своя дача, вещи и всякие бытовые возможности. В память Есенина, к которому Вы хорошо относились, пожалуйста, помогите его дочери и его внукам. Не пишу подробности их положения, но прошу Вас поверить мне, что оно так плохо, что мне приходится отчаянно и настойчиво просить Вас послать ей вызов в Москву как можно скорее. Очень надеюсь, что Вы исполните мою просьбу. 11. 1944. Необходимые сведения прилагаю».
Тяжело переживала С. Толстая затянувшееся замалчивание творчества Сергея Есенина. Иногда и она начинала терять надежду. «Софья Андреевна Есенина-Толстая, так много сделавшая для сохранения памяти о муже, была доведена до того, что на склоне своих дней, тяжело больная, обобранная и напуганная, отгородилась от всех одной лаконичной фразой: „Я по есенинским делам не принимаю“», — писала Т. П. Флор-Есенина.
Но такие слова произносились ею в минуты отчаяния. До конца своей жизни Софья Андреевна оказывала есенинской теме большое внимание. С богатым есенинским архивом С. А. Толстая-Есенина знакомила специалистов, которые по-новому, без классовых предвзятостей и идеологических установок, рассматривали и научно изучали поэтическое наследие С. Есенина.
«Разрешаю Ю. Л. Прокушеву использовать по своему усмотрению в печати все материалы и фотоснимки, сделанные с моих материалов, касающихся жизни и творчества мужа моего — поэта С. А. Есенина. С. Толстая-Есенина», — написала она на обороте подаренной фотографии известному исследователю творчества С. Есенина.
Не следует забывать, что с тридцатых годов основная служебная обязанность С. А. Толстой была связана с работой в музеях Льва Николаевича Толстого.
В тяжелые годы войны она много сделала для сохранения материалов, связанных с именем Льва Николаевича Толстого. Она была назначена директором объединенных музеев Льва Толстого. Огромные усилия приложила С. А. Толстая к восстановлению разрушенной гитлеровцами Яснополянской усадьбы, созданию экспозиции на станции Астапово, посвященной памяти Льва Николаевича. Она принимала участие во многих изданиях произведений великого русского писателя.
В 1948 году Софья Андреевна вновь пытается создать семью, выходит замуж за Александра Дмитриевича Тимрот. Весь свой архив Софья Андреевна Толстая-Есенина завещала Государственному музею Л. Н. Толстого, кроме есенинских материалов, которые  передала в Государственный Литературный музей. Умерла Софья Андреевна в 1957 году пятидесяти семи лет, пронеся сквозь все годы свою любовь к великому русскому поэту Сергею Александровичу Есенину. Умерла в Малаховке.В этот день было открытие Международного фестиваля молодежи и студентов в Москве, поэтому с большим трудом удалось отправить гроб в Ясную Поляну. Священнику не разрешили отпевание покойной. Похоронена Софья Андреевна на Кочаковском родовом кладбище семейства Толстых близ Ясной Поляны.
передала в Государственный Литературный музей. Умерла Софья Андреевна в 1957 году пятидесяти семи лет, пронеся сквозь все годы свою любовь к великому русскому поэту Сергею Александровичу Есенину. Умерла в Малаховке.В этот день было открытие Международного фестиваля молодежи и студентов в Москве, поэтому с большим трудом удалось отправить гроб в Ясную Поляну. Священнику не разрешили отпевание покойной. Похоронена Софья Андреевна на Кочаковском родовом кладбище семейства Толстых близ Ясной Поляны.
2. Берзинь А. А. Последние дни Есенина. (Предисловие, редакция., публикация Р. Киршон). — «Кубань», 1970, № 7, с. 82-100.
3. Вержбицкий Н. Женщины в жизни и поэзии Сергея Есенина. — Простор, 1967, № 3, с. 105 – 111.
4. Виноградская С. Как жил Есенин. — Библиотека «Огонек», М., 1926, № 201. Переиздание в сб. «Как жил Есенин». Челябинск. 1992.
5. Грибанов Б. Женщины, любившие Есенина. — М., 2002, Терра.
Ермилов Л. Последняя спутница С. Есенина. — «Молодая гвардия», 2001, № 11/12, с. 185–189.
6. Есенина Н. В. В семье родной. М., Советский писатель. 2001.
7. Женщины par excellence. Переписка М. М. Шкапской и С. А. Толстой. 1923–1928. \\ Вступ. статья, комментарий и публикация С. И. Субботина. — Наше наследие. М., 2002, № 63–64. — с. 128–150.
8. Жизнь Есенина. / Сост., вступ. ст. и примеч. С. П. Кошечкина. — М., Правда. 1988.
9. Куняев Ст., Куняев С. С. Сергей Есенин. — М. ТЕРРА – Книжный клуб, 1999.
10. Лукьянов А. В. Сергей Есенин. Тайна жизни. — Ростов-на-Дону., 2000.
11. Наседкин В. Ф. Ветер с поля. Стихи, воспоминания о Есенине. Уфа. 1978.
12. Никифорова Т. Г. «…Горько видеть жизни край». Сергей Есенин и Софья Толстая. — Наше наследие. М., 1995, № 34, с. 59.
13. Обыденкин Н. В. «Россия поклоняется Есенину…» — Рязань: Узорочье. 2001 — глава «Я очень счастлива и очень люблю…» — с. 109–113.
14. Панфилов А. Есенин без тайны. Поиски и исследования. — М., Народная книга. 1994.
15. Прокушев Ю. Л. Судьба поэта. Библ. «Огонек» № 14. — М., Правда. 1976.
16. Ройзман М. Всё, что помню о Есенине. — М., Советская Россия, 1973.
17. Русское зарубежье о Есенине. В 2-х томах./ Вступительная статья, сост., комментарии Н. И. Шубниковой-Гусевой/. — М., Инкон, Том 1. Воспоминания. Том 2. Эссе, очерки, рецензии, статьи.
18. С. А. Есенин в воспоминаниях современников в двух томах. М., 1986.
19. С. А. Есенин. Материалы к биографии./ Сост., подготовка текстов, комментарии Н. И. Гусевой, С. И. Субботина, С. В. Шумихина. — М., Историческое наследие. 1992.
20. Сергей Есенин в стихах и жизни: Воспоминания современников./ Сост. и общая редакция Н. И. Шубниковой-Гусевой. — М., ТЕРРА, Республика, 1997.
21. Сергей Есенин в стихах и жизни: Письма. Документы./ Общая редакция Н. И. Шубниковой-Гусевой. Составители С. П. Митрофанова-Есенина и Т. П. Флор-Есенина. — М., Республика. 1995.
22. Сергей Есенин. Полное собрание сочинений в семи томах (девяти книгах ). Главный редактор Ю. Л. Прокушев. М., «Наука»-«Голос», 1995-2001 г.
23. Сибикин В., Ханаев Б. С. Есенин и женщины. — Кемерово, «Притомское», 1993.
24. Флор-Есенина Т. П. Даль памяти. — «Радуница». Информационный сборник № 1. М., 1989. с. 61–70.
Добавить комментарий
Комментарии, не имеющие прямого отношения к теме статьи, содержащие оскорбительные слова, ненормативную лексику или малейший намек на разжигание социальной, религиозной или национальной розни, а также просто бессмысленные, ПУБЛИКОВАТЬСЯ НЕ БУДУТ.