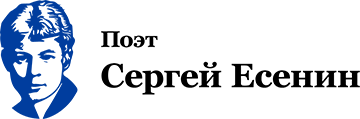Названия сборников стихов есенина
24.01.2018История создания стихов есенина
24.01.2018Стихи есенина 1916 года
ЕСЕНИН В 1916 ГОДУ
1 января 1916 года Николай Клюев и Сергей Есенин приехали в Москву. Сразу два обстоятельства этого визита резко отделили обоих поэтов от той элитарной модернистской среды, в которую они до тех пор были вполне органично вписаны.
Во-первых, в Москве для них по специальному заказу сшили концертные костюмы и сапоги: 5 января Есенин и Клюев побывали в мастерской русского платья братьев Стуловых и придирчиво осмотрели материал для будущей обновы. «Сапоги с трудом, но удалось найти; они выбрали цвет кожи золотисто-коричневый, хотя и не совсем стильный, но очень приятный, не режущий глаз», — докладывал Н. Т. Стулов полковнику Ломану из Москвы в Петроград (цит. по: Летопись. Т. 1: 310). Вдохновенное дилетантское костюмирование своих предшественников сметливые крестьянские поэты рационально, но как-то уж очень неделикатно, почти пародийно подменили обращением за помощью к профессиональным портным и сапожникам. Соответственно, и сами они в глазах этих предшественников из выразителей религиозных чаяний русского народа в одночасье превратились едва ли не в наемных артистов, «оперных мужиков», в лучшем случае — в полуэстрадных «сказителей»; именно так, без тени иронии, именовал Есенина и Клюева Стулов в донесениях Ломану 1 .
Во-вторых, что еще важнее: основной целью приезда «сказителей» в Москву было выступление перед великой княгиней Елизаветой Федоровной и ее ближайшим окружением. Разумеется, это тоже не могло понравиться законодателям литературного Петрограда. Ведь по традиции, еще с 1905 года, все они, за редчайшими исключениями, были настроены по отношению к царскому двору крайне негативно.
-
Стоят три фонаря — для вешанья трех лиц:
Середний — для царя, а сбоку — для цариц.
Эта лютая эпиграмма в 1905 году была написана не Демьяном Бедным и не Глебом Кржижановским, а символистом Федором Сологубом. Начавшаяся Первая мировая война лишь сперва воодушевила, а потом — еще больше обозлила передовую интеллигенцию.
Как мы еще увидим, откровенно вызывающее поведение Клюева и Есенина диктовалось стремлением преодолеть зависимость от модернистов и попытаться вести собственную линию не только в искусстве, но и в общественной жизни.
В первых числах января поэты выступили в стенах Марфо-Мариинской обители, месте, словно специально построенном для восприятия стилизованных под русскую старину «сказаний»: главный храм обители, возведение которого по проекту А. В. Щусева было завершено в 1912 году, совмещал в своем облике черты стиля модерн с элементами средневекового новгородско-псковского зодчества. Расписывал храм Михаил Нестеров 2 .
«По их словам, — писал Стулов полковнику Ломану о Клюеве и Есенине, — они очень понравились Великой Княгине и она долго расспрашивала их о прошлом, заставляя объяснять смысл их сказаний» (цит. по: Летопись. Т. 1: 309). 12 января, «уже в новых костюмах», но еще в старых сапогах поэты читали стихи «лично у Великой Княгини в ее доме» (из донесения Стулова Ломану; Летопись. Т. 1: 310). Присутствовавший на этом чтении М. В. Нестеров в воспоминаниях оставил не слишком приязненный портрет Есенина: «Начал молодой: нежным, слащавым голосом он декламировал свои стихотворения. Содержания их я не помню, помню лишь, что все: и голос, и манера, и сами стихотворения показались мне искусственными» (Нестеров: 335).
Самое парадоксальное заключается в том, что в начале 1916 года Есенин-поэт, может быть, как никогда прежде был далек от создававшегося им образа наивного пастушка. 10 января газета «Биржевые ведомости» напечатала его стихотворение «Лисица». Здесь и тени не отыскать лубочного псевдославянского стилизаторства, хотя диалектные и устаревшие слова встречаются не раз и не два 3 . Весомо и зримо есенинское стихотворение свидетельствовало о подлинном, не заемном мастерстве рязанского поэта:
-
На раздробленной ноге приковыляла,
У норы свернулася в кольцо.
Тонкой прошвой кровь отмежевала
На снегу дремучее лицо.
Ей все бластился в колючем дыме выстрел,
Колыхалася в глазах лесная топь.
Из кустов косматый ветер взбыстрил
И рассыпал звонистую дробь.
Как желна, над нею мгла металась,
Мокрый вечер липок был и ал.
Голова тревожно подымалась,
И язык на ране застывал.
Желтый хвост упал в метель пожаром,
На губах — как прелая морковь…
Пахло инеем и глиняным угаром,
А в ощур сочилась тихо кровь.
«Я был поражен достоверностью живописи, удивительными мастерскими инверсиями. — вспоминал Валентин Катаев свое первое впечатление от этого стихотворения. — <…> Прелая морковь доконала меня. Я никогда не представлял, что можно так волшебно пользоваться словом. Я почувствовал благородную зависть — нет, мне так никогда не написать! Незнакомый поэт запросто перешагнул через рубеж, положенный передо мною Буниным и казавшийся окончательным» (Катаев: 48).
15 января 1916 года новые сапоги Клюева и Есенина были, наконец, готовы. Эту обнову «сказители» опробовали 21 января в собрании московского «Общества свободной эстетики», где новокрестьянские поэты читали свои стихи. «Сшили они себе боярские костюмы — бархатные длинные кафтаны; у Сергея была шелковая голубая рубаха и желтые сапоги на высоком каблуке, как он говорил: “Под пятой, пятой хоть яйцо кати”, — вспоминала Анна Изряднова. — <…> В “Эстетике” на них смотрели как на диковинку» (Изряднова: 145). «…Ломание их в литературе и маскарад на вечерах — мне не нравятся, — писал Л. Клейнборту былой соратник Есенина по радикальному крылу Суриковского кружка, Семен Фомин. — Пожалуй, они далеки от настоящего народничества» (Летопись. Т. 1: 316).
Приведем фрагмент из мемуаров еще одного посетителя вечера в собрании «Общества свободной эстетики», Ивана Розанова. Он изобразил молодого Есенина как «парня странного вида» (Розанов 1926: 74), на котором «была голубая шелковая рубашка, черная бархатная безрукавка и нарядные сапожки» (Розанов 1926: 74). «Но особенно поражали пышные волосы, — продолжает Розанов. — Он был совершенно белоголовый, как бывают в деревнях малые ребята. Обыкновенно позднее такие волосы более или менее темнеют, а у странного нарядного парня остались, очевидно, и до сих пор. Во-вторых, они были необычайно кудрявы. Возникало подозрение, не завит ли он или… хотелось подойти и попробовать, не парик ли?» (Розанов 1926: 74).
23 или 24 января Клюев и Есенин возвратились в Петроград и сразу же предстали перед своим высоким покровителем, полковником Ломаном. Мы не знаем, как он отреагировал на сценические наряды «сказителей». Зато доподлинно известно, что на малолетнего полковничьего сына Юру «молодой кудрявый блондин в канареечного цвета рубахе и русских цветных сапогах на высоченном каблуке» (цит. по: Летопись. Т. 1: 315) произвел поистине сказочное впечатление. В своих позднейших мемуарах он писал: «Я на него глядел, и мне показалось, что этот парень похож на Ивана-царевича, словно он только что сошел с серого волка» (цит. по: Летопись. Т. 1: 315). 4
В начале февраля 1916 года в книжные магазины поступила дебютная книга стихов Есенина «Радуница». «Получив авторские экземпляры, — вспоминал М. Мурашев, — Сергей прибежал ко мне радостный, уселся в кресло и принялся перелистывать, точно пестуя первое свое детище» (Мурашев: 189).
Заглавие книги, как уже повелось у поэта, заключало в себе загадку для «городского» читателя, но загадку отнюдь не трудную. Достаточно было заглянуть в словарь В. И. Даля и узнать оттуда, что радуница — это «родительский день поминовения усопших на кладбище на фоминой неделе; тут поют, едят, угощают и покойников, призывая их на радость пресветлого воскресения».
Не напрасно я живу,
Припадаю на траву.
Между сосен, между елок,
Меж берез кудрявых бус,
Под венцом, в кольце иголок,
Мне мерещится Исус.
— варьировал Есенин любимые пантеистические мотивы в магистральном стихотворении книги 5 . Пройдет несколько лет, и Александр Блок в финальных строках «Двенадцати» тоже предпочтет старообрядческую — воспринимаемую как простонародную — форму имени Божьего («Впереди Исус Христос») канонической.
Сдерживая свой диалектологический пыл в стихотворениях «Радуницы», молодой поэт вдоволь поупражнялся в стилизации лексикона Ивана-царевича, даря первую книгу коллегам-литераторам. И. Ясинскому, к примеру, «Радуница» была вручена «на добрую память от размычливых упевов сохи-дерехи и поëмов Константиновских-Мещëрских певнозобых озер» (Есенин. Т. 7. Кн. 1: 35); Н. Венгрову — «от ипостаси сохи-дерехи» (Есенин. Т. 7. Кн. 1: 36); М. Горькому — «от баяшника соломенных суëмов» (Есенин. Т. 7. Кн. 1: 38); Н. Котляревскому — «…От росейского парня» (Есенин. Т. 7. Кн. 1: 40); Я. Сакеру — «…От баяшника соломенных суëмов За подсовки в бока, которые дороже многих приятных, но только слов» (Есенин. Т. 7. Кн. 1: 50); Д. Философову — «За доброе напутное Слово от баяшника соломенных суëмов» (Есенин. Т. 7. Кн. 1: 51); Е. Замятину — «…Баяшнику, словомолитвенному <…> с поклоном и лютой верой» (Есенин. Т. 7. Кн. 1: 41). В последнем из приведенных инскриптов находим забавный след усвоения уроков недавнего есенинского учителя: «с любовью и верой лютой», как мы помним, подарил начинающему Есенину свою книгу стихов «Четырнадцатый год» Сергей Городецкий.
«Все в один голос говорили, что я талант. Я знал это лучше других». Так Есенин резюмировал критические отклики на «Радуницу» в автобиографии 1923 года (Есенин. Т. 7. Кн. 1: 12). Но это резюме не отражает всей полноты картины. Действительно, положительные рецензии в газетах и журналах преобладали. П. Сакулин: «…В Есенине говорит непосредственное чувство крестьянина» (Сакулин: 205) 6 ; С. Парнок: мир образов «Радуницы» «подлинен, а не изготовлен в театральной костюмерной» (Парнок: 219); З. Бухарова: Есенин — «лирик и художник родного быта» (Бухарова 1916: стб 149).
Однако доброжелательные отзывы на «Радуницу» соседствовали в прессе с резко отрицательными. Среди них особо выделим рецензию вечного зоила молодых стихотворцев, Николая Лернера, обвинившего Есенина и Клюева в сознательной и безвкусной стилизации «родной речи»: «…Трудно поверить, что это русские, до такой степени стараются они сохранить “стиль рюсс”, показать “национальное лицо” <…> Есенин не решается сказать: “слушают ракиты”. Помилуйте: что тут народного? А вот “слухают ракиты” — это самое нутро народности и есть. “Хоровод” — это выйдет чуть не по-немецки, другое дело “корогод”, квинтэссенция деревенского духа <…> Оба щеголяют “народными” словами, как военный писарь “заграничными”, и обоих можно рекомендовать любознательным людям для упражнения в переводах с “народного” на русский» (Лернер: 6) 7 . Когда автору «Радуницы» сделали сходный упрек на собрании у И. Ясинского, он «сослался на словарь Владимира Даля, где слово “корогод” в значении “хоровод” действительно можно найти» (Ясинская: 259). Не в этом ли словаре, повторимся, Есенин, вслед за С. М. Городецким и А. Н. Толстым нашел и многие другие «народные» слова для своих стихотворений? 8
Резко негативно оценил «Радуницу» один из прежних есенинских приятелей, Георгий Иванов. В своем отклике на книгу он злопамятно припомнил Есенину его старательное ученичество у символистов. По мнению Иванова, в стихотворениях «Радуницы» крестьянский поэт прошел «курс модернизма, тот поверхностный и несложный курс, который начинается перелистыванием “Чтеца-декламатора” и заканчивается усердным чтением “Весов” и “Золотого руна”. Чтением, когда все восхищает, принимается на веру и все усваивается, как непреложная истина» (Иванов 1917) 9 .
5 февраля в зале Товарищества гражданских инженеров состоялся вечер «Новой студии» с участием Клюева и Есенина. Нешуточное раздражение по отношению к обоим «стилизаторам», которое назрело у петроградской рафинированной публики к этому времени 10 , прорвалось в газетных отчетах. «…Их искание выразилось, главным образом, в искании… бархата на кафтан, плису на шаровары, сапогов бутылками, фабричных, модных, форсистых, помады головной и чуть ли не губной», — издевался Н. Шебуев в легкомысленном «Обозрении театров» (цит. по: Летопись. Т. 1: 323). В иной тональности, но, по сути, сходно оценил выступление Есенина и Клюева наблюдатель из солидного «Нового времени»: «…Поэты-“новонародники” гг. Клюев и Есенин производят попросту комическое впечатление в своих театральных поддевках и шароварах, в цветных сапогах, со своими версификационными вывертами, уснащенными якобы народными, непонятными словечками. Вся эта нарочитая разряженность не имеет ничего общего с подлинной народностью, всегда подкупающей искренней простотой чувства и ясностью образов» (цит. по: Летопись. Т. 1: 324).
В недалеком будущем такие упреки Клюеву и Есенину превратятся в общее место разносных статей об их поэзии. По указанным выше причинам, эти упреки очень часто будут обряжены в «одежные» метафоры и сравнения. «Их творчество от подлинно народного творчества отличается так же резко, как опереточный мужичок в шелковой рубахе и плисовых шароварах отличается от настоящего мужика в рваной сермяге и с изуродованными работой руками, — обличал Клюева и Есенина Д. Семеновский. — Их стихи — утрированный лубок, пряник в сусальном золоте» (Семеновский 1918). «Среди представителей литературной богемы появилась новая разновидность “народные поэты”», — саркастически сопоставлял далековатые понятия «богема» и «народ» Б. Никонов (цит. по: Летопись. Т. 1: 346). Сравним с впечатлениями Я. Мечиславской, впервые увидевшей Есенина на одном из выступлений зимой 1916 года. Ей запомнился «голубоглазый, златокудрый паренек, одетый в псевдорусском стиле, в бархатных брюках, в вышитой шелковой рубашке… Нам <с подругой> не понравился его пейзанский вид» (цит. по: Бебутов: 234).
Ярче и объективнее многих других критиков о феномене народных «певцов» в письме к Александру Ширяевцу от 19 декабря 1916 года высказался будущий летописец эпохи модернизма, Владислав Ходасевич: «Мне не совсем по душе основной лад Ваших стихов, — как и стихов Клычкова, Есенина, Клюева: стихи “писателей из народа”. Подлинные народные песни замечательны своей непосредственностью. Они обаятельны в устах самого народа, в точных записях. Но, подвергнутые литературной, книжной обработке, как у Вас, у Клюева и т. д., — утрачивают они главное свое достоинство, — примитивизм. Не обижайтесь — но ведь все-таки это уже стилизация. И в Ваших стихах, и у других, упомянутых мной поэтов, — песня народная как-то подчищена, вылощена. Все в ней новенькое, с иголочки, все пестро и цветисто, как на картинках Билибина. Это те “шелковые лапотки”, в которых ходил кто-то из былинных героев, — Чурило Пленкович, кажется. А народ не в шелковых ходит, это Вы знаете лучше меня» (Ширяевец: 30) 11 .
Судя по всему, чуткий Есенин начал всерьез тяготиться маской билибинского вылощенного селянина, обряженного в «шелковые лапотки» уже к январю–февралю 1916 года. Недвусмысленное отторжение образа «опереточного крестьянина» собратьями по поэтическому цеху ясно продемонстрировало автору «Радуницы» исчерпанность этого образа. Именно в первую зимнюю декаду 1916 года с опасной силой зазвучала нота отчуждения во взаимоотношениях Есенина с главным тогдашним «сторонник<ом>» «поддевочн<ого> стил<я>» Николаем Клюевым (Чернявский: 212).
«В начале 1916 года Сергей, кажется, впервые заговорил со мной откровенно о Клюеве, без которого даже у себя дома я давно его не видел, — вспоминал Владимир Чернявский. — С этих пор, не отрицая значение Клюева как поэта и по-прежнему идя с ним по одному пути, он не сдерживал своего мальчишески-сердитого негодования» (Чернявский: 214). В том фрагменте своих мемуаров, который был впервые опубликован по-русски лишь относительно недавно, Чернявский более подробно рассказал о сути претензий Есенина Клюеву: «С совершенно искренним и здоровым отвращением говорил» младший поэт о гомосексуализме старшего, «не скрывая, что ему пришлось физически уклоняться от настойчивых притязаний “Николая” и припугнуть его большим скандалом и разрывом, невыгодным для их поэтического дела. <…> По возвращении из первой поездки в Москву Сергей рассказывал, как Клюев ревновал его к женщине <Анне Изрядновой. — О. Л., М. С.>, с которой у него был первый — городской — роман. “Как только я за шапку, он — на пол, посреди номера, сидит и воет во весь голос по-бабьи: не ходи, не смей к ней ходить!”…» (цит. по: Азадовский 2002: 129–130).
В золотой период дружбы с Клюевым Есенин был готов до известных пределов терпеть его «настойчивые притязания». Теперь он все чаще вырывался из-под назойливой опеки наставника. Приведем свидетельство из мемуаров прославленной исполнительницы русских народных песен Н. Плевицкой, относящееся к весне 1916 года: «Сначала Есенин стеснялся, как девушка, а потом осмелел и за обедом стал трунить над Клюевым. Тот ежился и, втягивая голову в плечи, опускал глаза» (Плевицкая: 103). Тогда же Есенин подарил Клюеву свою фотографию с очень теплой надписью, сделанной, однако, как бы из отдаляющих и примиряющих грядущих лет: «Дорогой мой Коля! На долгие годы унесу любовь твою. Я знаю, что этот лик заставит меня плакать (как плачут на цветы) через много лет. Но это тоска будет не о минувшей юности, а по любви твоей, которая будет мне как старый друг. Твой Сережа 1916 г. 30 марта. П<е>т<роград>» (Есенин. Т. 7. Кн. 1: 42). В начале лета этого же года Есенин писал Михаилу Мурашеву из Москвы: «Клюев со мной не поехал, и я не знаю, для какого он вида затаскивал меня в свою политику. Стулов в телеграмме его обругал, он, оказалось, был у него раньше, один, когда ездил с Плевицкой и его кой в чем обличили» (Есенин. Т. 6: 79). Не очень понятно, о какой «политике» Клюева идет тут речь, но весь фрагмент есенинского письма дышит темной и, думается, не вполне оправданной злобой по отношению к старшему другу.
Еще не выйдя полностью из роли Ивана-царевича, Есенин принялся работать над своим новым образом, выбранным, впрочем, из все того же, «народного» репертуара, только не из сказки, а из разбойничьей песни. Поздней зимой и ранней весной 1916 года поэт впервые основательно примерил на себя маску ухаря-озорника. Можно сказать, что и в этом случае он своеобразно повторял Александра Блока, последовательно сменившего «высокую» ипостась служителя Прекрасной Дамы на «низкую» — певца Незнакомки и Коломбины.
Новую исполнительскую манеру Есенин попробовал контрастно совместить со старым материалом: на домашнем вечере у Евгения Замятина он «из особого ухарства» читал «с папироскою в зубах» свое длинное, исполненное «религиозного чувства» стихотворение «Микола» (Гребенщиков: 99) 12 :
-
Ходит ласковый угодник,
Пот елейный льет с лица:
«Ой ты, лес мой, хороводник,
Говорит Господь с престола,
Приоткрыв окно за рай:
«О мой верный раб, Микола,
Обойди ты русский край.
Защити там в черных бедах
Скорбью вытерзанный люд.
Помолись с ним о победах
А в сентябрьском-октябрьском номере «Ежемесячного журнала» за 1916 год Есенин опубликовал стихотворение «В том краю, где желтая крапива…», сквозь которое черты его новой поэтической маски проступали уже совершенно отчетливо:
-
Много зла от радости в убийцах,
Их сердца просты.
Но кривятся в почернелых лицах.
Я одну мечту, скрывая, нежу,
Что я сердцем чист.
Но и я кого-нибудь зарежу
Под осенний свист.
И меня по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
Характерно, что многие читатели советского времени воспринимали это стихотворение как позднее, относящееся к имажинистскому периоду Есенина: «…Наступившая революция рвет с есенинских “стихов золотые рогожи” и его уводит с собою к “иным” и “новым” образам <…> дальше уже срыв в “имажинизм”, правда, в русском стиле еще <…>. Он втягивается в круг желаний “но и я кого-нибудь зарежу под осенний свист”» (С-на. 1921). Более точным в своих историко-литературных оценках был умный марксистский критик А. К. Воронский, отмечавший, что уже в дореволюционных стихах Есенина «кротость, смирение, примиренность с жизнью, непротивленство, славословия тихому Спасу, немудрому Миколе уживаются одновременно с бунтарством, с скандальничеством и прямой поножовщиной» (Воронский 1924: 274).
Мы бы исправили только: «начиная с 1916 года, уживаются…».
12 апреля 1916 года Сергей Есенин был призван на военную службу и зачислен ратником II разряда в списки резерва. Давние хлопоты Городецкого, подхваченные Клюевым, не пропали втуне. Новобранца приписали к военно-санитарному поезду под командование полковника Ломана, так что он, по собственному позднейшему признанию, «был представлен ко многим льготам» (Есенин. Т. 7. Кн. 1: 12). Базировался обслуживающий персонал поезда в Царском Селе, в поселке, именовавшемся Феодоровским городком. Есенин «редко появлялся у нас, — вспоминала эту пору Зоя Ясинская, — и приходил в штатском, а не военном костюме. Одевался он в это трудное время с иголочки и преображался в настоящего денди, научился принимать вид томный и рассеянный. Он был уже вполне уверен в себе, а временами даже самоуверен» (Ясинская: 258). Встретивший Есенина весной 1916 года, в Петрограде, Михаил Бабенчиков также нашел поэта не слишком удрученным военной долей: «…Он, сняв фуражку с коротко остриженной головы, ткнул пальцем в кокарду и весело сказал:
— Видишь, забрили? Думаешь, пропал? Не тут-то было.
Глаза его лукаво подмигивали, и сам он напоминал школяра, тайком убежавшего от старших» (Бабенчиков: 244).
От ужасов передовой Есенина надежно страховал Ломан, а если на горизонте вдруг возникала опасность, преданные друзья принимали экстренные меры. Сохранилось письмо Клюева Ломану, которое мы приведем здесь полностью в качестве характерного образца клюевской эпистолярной прозы. Затейливые стилизаторские завитушки («санитарное войско», «бранное поле») были привычно поставлены олонецким поэтом на службу толково и настойчиво изложенной просьбе-требованию:
О песенном брате Сергее Есенине моление.
Прекраснейший из сынов крещеного царства мой светлый братик Сергей Есенин взят в санитарное войско с причислением к поезду № 143 имени е. и. в. в. к. Марии Павловны <так! — О. Л., М. С.>.
В настоящее время ему, Есенину, грозит отправка на бранное поле к передовым окопам. Ближайшее начальство советует Есенину хлопотать о том, чтобы его немедленно потребовали в вышеозначенный поезд. Иначе отправка к окопам неустранима. Умоляю тебя, милостивый, ради родимой песни и червонного великорусского слова похлопотать о вызове Есенина в поезд — вскорости.
В желании тебе здравия душевного и телесного остаюсь о песенном брате молельник Николай сын Алексеев Клюев» (Письма, документы: 310).
27 апреля военный поезд № 143 отправился в Крым. В течение следующих полутора месяцев Есенин колесил по огромной стране, обескровленной мировой войной. «…Его обязанностью было записывать имена и фамилии раненых, — со слов брата рассказывала Екатерина Есенина. — <…> Ему приходилось бывать и в операционной. Он говорил об операции одного офицера, которому отнимали обе ноги» (Есенина Е.: 42) 13 .
Екатерина Есенина, кажется, несколько смещая даты, писала в своих мемуарах и о том, что брата отпустили «на побывку» домой после перенесенной «операции аппендицита» (Есенина Е.: 42). Так или иначе, но Есенину 13 июня 1916 года действительно был выписан пятнадцатидневный отпуск, большую часть которого он провел в Константиново.
Этим летом поэт шапочно познакомился с дочерью московского миллионера И. П. Кулакова, константиновской помещицей Лидией Ивановной Кашиной, которой впоследствии было суждено стать прототипом для есенинской Анны Снегиной. Однако куда больше времени он пока проводил в обществе Анны Алексеевны Сардановской, выпускницы Рязанского женского епархиального училища, младшей сестры давнего есенинского приятеля, Николая Сардановского. Ей в первой публикации Есенин посвятил стихотворение «За горами, за желтыми долами…» (1916):
-
Каждый вечер, как синь затуманится,
Как повиснет заря на мосту,
Ты идешь, моя бедная странница,
Поклониться любви и кресту.
Кроток дух монастырского жителя,
Жадно слушаешь ты ектенью,
Помолись перед ликом Спасителя
Прозаическую вариацию этих несколько кокетливых, «томных» (как бы определила З. Ясинская) строк, можно найти в письме Есенина Сардановской, отправленном уже из Царского Села, в июле 1916 года: «Я еще не оторвался от всего того, что было, поэтому не преломил в себе окончательной ясности.
Рожь, тропа такая черная и шарф твой, как чадра Тамары.
В тебе, пожалуй, дурной осадок остался от меня, но я, кажется, хорошо смыл с себя дурь городскую.
Хорошо быть плохим, когда есть кому жалеть и любить тебя, что ты плохой. Я об этом очень тоскую. Это, кажется, для всех, но не для меня.
Прости, если груб был с тобой, это напускное, ведь главное-то стержень, о котором ты хоть маленькое, но имеешь представление.
Сижу, бездельничаю, а вербы под окном еще как бы дышат знакомым дурманом. Вечером буду пить пиво и вспоминать тебя» (Есенин. Т. 6: 80).
В ответном письме девушка слегка обиженно трунила над Есениным: «Спасибо тебе, что не забыл Анны, она тебя тоже не забывает. Мне только непонятно, почему ты вспоминаешь меня за пивом, не знаю, какая связь. Может быть, без пива ты и не вспомнил бы?» (цит. по: Есенин. Т. 6: 380).
Николаю Клюеву о своем пребывании в Константинове Есенин сообщал совсем по-другому. Он словно пробовал на язык броские бодлеровские характеристики «падаль» и «гниль», которым скоро предстоит прочно войти в есенинский поэтический обиход: «Пишу мало я за это время, дома был — только растравил себя и все время ходил из угла в угол да нюхал, чем отдает от моих бываний там, падалью или сырой гнилью» (Есенин. Т. 6: 82).
Из Константинова Есенин выехал 27 июня 1916 года; в Царском Селе он был 2 июля.
Уже на следующий день поэт посетил квартиру Михаила Мурашева, где продолжил вживлять в сознание ближайшего окружения черты своего нового поэтического образа. После бурного обсуждения в кружке Мурашева картины Яна Стыки «Пожар Рима» и исполнения одним из гостей фрагмента «Сомнения» Михаила Глинки на скрипке «Есенин подошел к письменному столу, взял альбом и быстро, без помарок написал следующее стихотворение:
Слушай, поганое сердце,
Сердце собачье мое.
Я на тебя, как на вора,
Спрятал в руках лезвие.
Рано ли, поздно всажу я
В ребра холодную сталь.
Нет, не могу я стремиться
В вечную сгнившую даль.
Пусть поглупее болтают,
Что их загрызла мета;
Если и есть что на свете —
Это одна пустота.
Прим (ечание). Влияние “Сомнения” Глинки и рисунка “Нерон, поджигающий Рим”. С. Е. ”
Я был поражен содержанием стихотворения. Мне оно казалось страшным, и тут же спросил его:
— Сергей, что это значит?
— То, что я чувствую, — ответил он с лукавой улыбкой.
Через десять дней состоялось деловое редакционное совещание, на котором присутствовал А. Блок. Был и Сергей Есенин.
Я рассказал Блоку о прошлом вечере, о наших спорах и показал стихотворение Есенина.
Блок медленно читал это стихотворение, очевидно и не раз, а затем покачал головой, подозвал к себе Сергея и спросил:
— Сергей Александрович, вы серьезно это написали или под впечатлением музыки?
— Серьезно, — чуть слышно ответил Есенин» (Мурашев: 194–195).
Мурашев, иногда навещавший Есенина в Царском Селе в одном из вариантов своих мемуаров подробно описал быт и тамошнее времяпрепровождение приятеля. Вот, выполненное им с протокольной точностью изображение есенинской комнаты в казарме: «Окно под потолком, но без решеток. Это не острог, а какой-то стиль постройки для слуг. Мрачная продолговатая комната. В ней четыре койки, покрытые солдатскими одеялами. Койка Есенина была справа под окном. У койки небольшой столик и табурет» (Мурашев 1926: 57). А вот — куда более отрадные строки о реакции полковника Ломана на визит Мурашева к другу: он «подошел к столику, сел на кровать Есенина и на большом листке бумаги написал: “Отпустить Есенину за наличный расчет 1 бут. виноградного вина и 2 бут. пива. Полковник Ломан”» (Мурашев 1926: 59). Пока эта снисходительность ничем не грозила: до прославленных есенинских запоев было еще очень далеко.
В Царском Селе Сергей Есенин часто виделся с постоянным его жителем, публицистом и критиком Ивановым-Разумником, которому после двух революций 1917 года будет суждено сыграть очень большую роль в жизни поэта. «На моей памяти одно из посещений отца Есениным в 1916 году, — рассказывала много лет спустя дочь Иванова-Разумника, Ирина. — Сергей Александрович стоял у рояля, пел. Может быть, не пел, а певуче читал свои стихи, но у меня сохранилось впечатление именно о пении» (цит. по: Карохин: 35). Приведем здесь также начальные строки мемуарного стихотворения Веры Гедройц «Сергею Есенину»:
-
Я тебя помню в голубой рубашке
Под сенью радушного крова.
Ты пил из фарфоровой чашки
Чай у Разумника-Иванова.
Точно лен, волнистые пряди
По плечам твоим спускались,
Из-под длинных ресниц ограды
Ты был молод, почти ребенок,
Смех звучал безмятежно,
И был ты странно робок
И странно нежен.
На 22 июля 1916 года пришелся пик взаимоотношений поэта из крестьян Сергея Есенина с династией Романовых: Есенин выступил в программе увеселения для императрицы Александры Федоровны в Царском Селе с чтением стихотворения, созданного специально к этому дню. Переписанное славянской вязью, стихотворение вручили Александре Федоровне вместе со специальным экземпляром «Радуницы».
-
В багровом зареве закат шипуч и пенен,
Березки белые горят в своих венцах.
Приветствует мой стих младых царевен
И кротость юную в их ласковых сердцах.
Где тени бледные и горестные муки,
Они тому, кто шел страдать за нас,
Протягивают царственные руки,
Благословляя их в грядущей жизни час.
На ложе белом, в ярком блеске света,
Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть…
И вздрагивают стены лазарета
От жалости, что им сжимает грудь.
Все ближе тянет их рукой неодолимой
Туда, где скорбь кладет печать на лбу.
О, помолись, святая Магдалина,
Полковник Ломан, чьими стараниями было организовано выступление Есенина, отправил специальное прошение на имя Александры Федоровны с просьбой о поощрительном подарке поэту. Таким подарком должны были стать золотые часы с цепочкой.
Вопрос о желании или нежелании Есенина участвовать в программе увеселения для императрицы, по-видимому, даже не ставился. Тем не менее, либеральная общественность, как и следовало ожидать, встретила известие о «поступке» поэта с негодованием. В мемуарах Георгия Иванова, написанных, впрочем, в эмиграции, где общее отношение к царствовавшей фамилии резко переменилось, с обычными для него преувеличениями, но, в целом, точно, рассказано об этой реакции: «Кончился петербургский период карьеры Есенина совершенно неожиданно. Поздней осенью 1916 г. вдруг распространился и потом подтвердился “чудовищный” слух: “наш” Есенин, “душка” Есенин, “прелестный мальчик” Есенин — представлялся Александре Федоровне в Царскосельском дворце. <…>
Теперь даже трудно себе представить степень негодования, охватившего тогдашнюю “передовую общественность”, когда обнаружилось, что “гнусный поступок” Есенина не выдумка, не “навет черной сотни”, а непреложный факт. Бросились к Есенину за объяснениями. Он сперва отмалчивался. Потом признался. Потом взял признание обратно. Потом куда-то исчез, не то на фронт, не то в рязанскую деревню…
Возмущение вчерашним любимцем было огромно. Оно принимало порой комические формы. Так, С. И. Чацкина, очень богатая и еще более передовая дама, всерьез называвшая издаваемый ею журнал “Северные записки” — “тараном искусства по царизму” 14 , на пышном приеме в своей гостеприимной квартире истерически рвала рукописи и письма Есенина, визжа: “Отогрели змею! Новый Распутин! Второй Протопопов!” Тщетно ее более сдержанный супруг Я. Л. Сакер уговаривал расходившуюся меценатку не портить здоровья “из-за какого-то ренегата”» (Иванов: 179–180).
«Таких “преступлений”, как монархические чувства, — прибавляет Иванов, — русскому писателю либеральная общественность не прощала. Есенин не мог этого не понимать и, очевидно, сознательно шел на разрыв. Каковы были планы и надежды, толкнувшие его на такой смелый шаг, неизвестно» (Иванов: 180).
Некоторое представление об этих планах все же способно дать витиеватое послание Николая Клюева полковнику Ломану «Бисер малый от уст мужицких», отправленное в октябре 1916 года, после консультаций с Есениным. Текст «Бисера» представлял собою ответ на предложение издать книгу стихов Клюева и Есенина о царском Феодоровском соборе, где Ломан был старостой прихода.
Из этого послания видно, что в обмен на сверхлояльность и очевидные сопутствующие неприятности крестьянские поэты желали ни больше, ни меньше, как участвовать в решении государственных дел. Правда, не совсем понятно — в какой функции и с какими полномочиями: «На желание же Ваше издать книгу наших стихов, в которой были бы отражены близкие Вам настроения, запечатлены любимые Вами Феодоровский собор, лик царя и аромат храмины государевой — я отвечу словами древней рукописи: “Мужие книжны, писцы, золотари заповедь и часть с духовными считали своим великим грехом, что приемлют от царей и архиереев и да посаждаются на седалищах и на вечерях близ святителей с честными людьми”. Так смотрела древняя церковь и власть на своих художников. В такой атмосфере складывалось как самое художество, так и отношение к нему.
Дайте нам эту атмосферу, и Вы узрите чудо. Пока же мы дышим воздухом задворок, то, разумеется, задворки и рисуем. Нельзя изображать то, о чем не имеешь никакого представления. Говорить же о чем-либо священном вслепую мы считаем великим грехом, ибо знаем, что ничего из этого, окромя лжи и безобразия, не выйдет» (цит. по: Вдовин: 147). Возможно, впрочем, что подобным образом Клюев и благоразумно оставшийся за кадром Есенин — прямой подчиненный Ломана — просто «искусно уклони<лись> от предложения» полковника-монархиста (Азадовский 2002: 135).
В сентябре 1916 года Есенин получил обещанный в июле царский подарок: золотые часы с изображением Государственного Герба. Несколько дней спустя он отправил слезное прошение в «Комитет литературного фонда», более всего напоминающее письмо Ваньки Жукова «на деревню дедушке»: «Находясь на военной службе и не имея возможности писать и печататься, прошу покорнейше литературный фонд оказать мне вспомоществование взаимообразное в размере ста пятидесяти рублей, ибо, получив старые казенные сапоги, хожу по мокроте в дырявых, часто принужден из-за немоготной пищи голодать и ходить оборванным, а от начальства приказ — хоть где хошь бери. А рубашку и шаровары одни без сапог справить 50 рублей стоит да сапоги почти столько» (Есенин. Т. 7. Кн. 2: 201). После рассмотрения дела в фонде, в финансовой поддержке Есенину было отказано.
Тогда же он вместе с Клюевым коротко свиделся и возобновил отношения с Сергеем Городецким. «Я жил на Николаевской набережной, дверь выходила прямо на улицу, извозчик ждал меня, свидание было недолгим, — вспоминал Городецкий. — Самое неприятное впечатление осталось у меня от этой встречи. Оба поэта были в шикарных поддевках, со старинными крестами на груди, очень франтоватые и самодовольные. Все же я им обрадовался, мы расцеловались и, после мироточивых слов Клюева, попрощались» (Городецкий: 140).
Когда Георгий Иванов в процитированном чуть выше фрагменте своих «Петербургских зим» писал, что Сергей Есенин осенью 1916 года, кажется, был отправлен на фронт, он опирался на показания самого автора «Радуницы», утверждавшего в автобиографии: «Революция застала меня на фронте в одном из дисциплинарных батальонов, куда я угодил за то, что отказался написать стихи в честь царя» (Есенин. Т. 7. Кн. 1: 12). «Это уж решительно ни на что не похоже, — справедливо замечает Владислав Ходасевич по поводу есенинского утверждения. — Во-первых, вряд ли можно было угодить в дисциплинарный батальон за отказ писать стихи в честь царя: к счастью или к несчастью, писанию или неписанию стихов в честь Николая II не придавали такого значения. Во-вторых же (и это главное) — трудно понять, почему Есенин считал невозможным писать стихи в честь царя, но не только читал стихи царице, а и посвящал их ей» (Ходасевич: 130) 15 .
А вот в свою рязанскую деревню Есенин действительно ездил: в начале октября он получил очередную увольнительную из Царского Села и отбыл сначала в Москву, а оттуда — в Константиново.
Вернувшись в Петроград, в декабре 1916 года Есенин продал право на издание своих сочинений и, тем самым, на некоторое время обеспечил себя материально.
Биографическая справка Б. Козьмина в освещении описанного в этой главе периода биографии Есенина рабски следовала за ним самим и, соответственно, его выдумками: «В 1916 г. Е. был призван на военную службу. При некотором содействии полковника Ломана, адъютанта царицы, пользовался многими льготами, жил в Царском Селе и однажды читал стихи царице. Революция застала Е. в дисциплинарном батальоне, куда он попал за то, что отказался писать стихи в честь царя» (Козьмин: 122–123).
1 Ср. недостоверный, но, по-видимому, опирающийся на реальные настроения, царившие в модернистской среде, эпизод из мемуаров Г. Иванова: «Бывают и неприятности, конечно. Сологуб, например, прощаясь, проворчит по-стариковски:
— А где ваш главный распорядитель?
— Какой, Федор Кузьмич?
— Да Лейферт, костюмер. Лапти-то у него напрокат брали» (Иванов: 70).
2 Клюев и Есенин, конечно, не читали свои «сказания» в соборе. Но перед выступлением поэты его посетили.
3 Недаром, в журнальной публикации «Лисица» была посвящена Алексею Михайловичу Ремизову.
4 О пребывании Есенина и Клюева в Москве см. также: Субботин 1993.
5 П. Сакулин в рецензии на «Радуницу» назвал это стихотворение «самоопредление<м>» Есенина (Сакулин: 206).
6 Статья известного историка литературы П. Н. Сакулина была печатным вариантом его вступительного слова на вечере Есенина и Клюева в Женском педагогическом институте, состоявшемся 10 февраля 1916 года.
7 Справедливости ради, нужно все же отметить, что Лернер не отказывал ни Клюеву, ни Есенину в таланте. «Оба, в особенности Есенин, не чужды поэтических настроений, оба воспринимают красоту мира», — писал он (Лернер: 6).
8 О работе А. Н. Толстого-поэта со словарем Даля см.: Громов, Лекманов, Свердлов: 566–567. См. также в рецензии осведомленного М. Волошина на книгу стихов Толстого «За синими реками» (1911): «Едва ли не первый из современных поэтов, начавший читать Даля, был Вячеслав Иванов. Во всяком случае современные поэты младшего поколения под его влиянием подписались на новое издание Даля» (Волошин: 535). Ср. в мемуарах Городецкого сообщение о том, что Вячеслав Иванов «весьма сочувственно отнесся к Есенину» (Городецкий: 139). Ср. с мнением Вячеслава Иванова о Есенине, зафиксированным М. С. Альтманом в 1921 году: «Есенин близок к мифотворчеству, он несомненно талантлив, хотя учителя его, Клюева, я считаю выше» (Альтман: 79).
9 Ср. с едким замечанием Г. И. Чулкова 1915 года о начинающем стихотворце «из Рязани или Тамбова», почитавшем «своевременно кое-какие нужные книжки» (цит. по: Летопись Т. 1: 243).
10 Впрочем, сходными настроениями либеральная интеллигенция была охвачена уже довольно давно. Ср. в неподписанной заметке «Среди журналов и газет», помещенной в петербургском «Gaudeamus» в 1911 году: «Неужели не надоело интеллигентам выводить в свет “дрессированного на свободе” мужика? Не пора ли вернуться к подлинному народу, который любит мысль и вдохновение и побивает камнями парней с гармониками» (Gaudeamus: 14).
12 Интересный факт: в марте 1916 года, очевидно, готовя свою новую роль, Есенин специально занимался в школе сценического искусства у Владимира Сладкопевцева (Студенцова: 15–17).
13 Сравним с невольной перекличкой при описании ужасов Первой мировой войны у Владимира Маяковского, в стихотворении «Вам!» (1915): «…может быть, сейчас бомбой ноги // вырвало у Петрова поручика. »
14 Не поручимся, что эти сведения соответствуют действительности. Во всяком случае, Георгий Иванов активно печатался в «Северных записках». — О. Л., М. С.
15 Специальному выяснению вопроса о том, служил ли Есенин в дисциплинарном батальоне, посвящена содержательная статья: Вдовин. Здесь, в частности, показано, что процитированное нами послание Клюева Ломану никак не отразилось на военной судьбе Есенина, и что факты есенинской биографии 1916 – начала 1917 годов решительно противоречат его же позднейшей версии о пребывании в дисциплинарном батальоне.
Дата публикации на Ruthenia 18.02.2006.