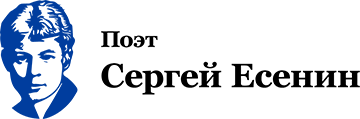Анализ стихотворения Есенина Письмо матери, ключевые моменты
24.01.2018Стихи есенина прижаться щекой
24.01.2018Языческие стихи есенина
К. А. Кедров. Образы древнерусского искусства в поэзии С. А. Есенина
Страстная жажда справедливости «Голубиной книги», бунтующая сила Аввакума, примиряющая и мудрая «Повесть временных лет», образы древнерусской Живописи — все это ожило и засияло по-новому в поэзии Сергея Есенина.
Есенину были непонятны слова тургеневского Базарова: «Природа не храм, а мастерская». Для него природа и Русь — понятия нераздельные, для него они, конечно же, храм:
Здесь религиозности не больше, чем язычества в ранних стихах Есенина.
Раз и навсегда поняв условность как языческой, так и религиозной символики Есенина, мы почувствуем и безусловную поэтическую глубину его образов. Ведь самое удивительное в приведенном выше четверостишии — полное отсутствие стилизации. Не от книги, а от сердца идет это ощущение слитности с природой, породившей и самого поэта.
Здесь очень важная особенность поэтики Есенина, унаследованная им от фольклорной традиции. В народной поэзии, как и в древнерусской литературе, полностью отсутствует стремление к оригинальничанью. Чувствуя себя неотделимым от мира отцов и дедов, древний автор стремился прежде всего подражать самым высоким образцам. Эта особенность присуща не только древнерусской, но и всей мировой культуре до начала XIX века. И Андрей Рублев, и Микеланджело, и Шекспир не стыдились ученичества.
Отсюда устойчивость образной системы русского народного творчества и древнерусской литературы. Как в древнерусской живописи определенная система канонизированных образов-символов требовала от художника максимальной выразительности в рамках существующей традиции, так и в поэтическом творчестве народ, не боясь заимствований и повторов, в каждую новую эпоху, прибегая к привычным образам, выражал новое мироощущение.
Традиция требовала от поэта и художника максимальной выразительности и в то же время не позволяла его индивидуальной творческой фантазии оторваться от той основы, которая уходит корнями в века и тысячелетия.
Вот почему так называемые повторы в народной поэзии — это вовсе не повторы, ибо слово и образ, повторенных дважды, звучат по-иному, а если слово-образ овеяно дыханием тысячелетий, то повторять его нужно особенно бережно, так бережно, как это делал Сергей Есенин. Он повторял старые, давно знакомые слова, и они звучали по-новому.
Есенин сказал о великой тайне своего творчества- тайне повтора, который неповторим:
Есенин говорит здесь и о поэтическом повторе, когда века перекликаются с тысячелетиями и новое эхо рождает новые песни:
Образы Есенина всем нам знакомы с детства. Вернее, это только так говорится «с детства», потому что в детстве особо запоминаются фольклорные образы русских сказок и даже древних магических заклинаний, отзвук которых слышится порой в какой-нибудь детской игре. Когда мы читаем строки: «Родился я с песнями в травном одеяле,|| Зори меня вешние в радугу свивали», сразу вспоминается радуга-дуга из бесчисленных заклинаний, дошедших до нас в виде считалочки. Так называемая религиозная символика стихов Есенина на самом деле ничуть не более религиозна, чем «Повесть временных лет», «Голубиная книга», «Житие протопопа Аввакума», «Слово о полку Игореве».
Пожалуй, именно «Слово о полку Игореве», где языческий мир славянства передается в причудливом сплетении с христианской символикой, может быть прообразом поэтики раннего Сергея Есенина.
Цветы и травы вплетаются в поэзию Есенина, как причудливый языческий орнамент: звери, птицы, растения сплетают единую ткань древнерусской живописи, архитектуры и поэзии. Об этом писал и сам поэт в статье «Ключи Марии».
Есенин называет себя внуком «купальной ночи» не случайно. В Рязанской губернии языческие обряды и песни звенели и в начале XX века. А. Лядов записал в Рязанской губернии три колядовые песни, в которых причудливо переплетаются черты языческие и христианские :
распевали жители рязанской губернии в ночь перед рождеством.
Может быть, поэтому Есенин так часто превращает религиозные христианские обедни в языческие обряды:
Есенин вряд ли читал в это время (1916) об Алеше Карамазове, припадающем к земле. Есенин молился своей «дымящейся земле», потому что ему не нужно было к ней припадать, он жил с этой землей и без нее не мог ни дышать ни петь. Ведь для него родные степи звенели «молитвословным ковылем» и «мелкий дождь своей молитвой ранней» «стучит по мутному стеклу».
В этом плане очень интересно стихотворение Есенина «Заглушила засуха засевки».
Казенное церковное молебствование внезапно перерастает в языческий праздник природных сил:
И уже совсем по-рериховски запечатлена неистовая магия грозового неба:
Здесь впервые появляется образ, распространенный в народной символике — Черный конь. В нем нет ничего зловещего. Это просто черная туча, посылающая желанную грозу. Грозный Илья-пророк на огненной колеснице здесь скорее «батюшка — Илья-пророк» с иконы московского письма, где в отличие от икон новгородской школы святые смотрят не суровым взором судии, а мечтательно-задумчивым, добрым взглядом. В этой доброте и кроется могучая потаенная сила, как в предгрозовом небе, готовом излиться на жаждущую землю благодатным дождем.
В другом стихотворении, написанном, как и предыдущее, в 1914 году, мотив языческого гадания приобретает трагический оттенок:
Опять причудливое сплетение языческой и христианской символики, как и в другом стихотворении из цикла «Русь», где сама земля отпевает погибших героев:
Образ нерукотворного спаса становится символом страдающей и распинаемой Родины:
Последние строки поражают иконной строгостью, и в то же время черты реальной Руси не растворяются в символе, а скорее символ становится индивидуальным, отпечатавшись на лице проходящих странников.
Снова поэт вплетает причудливый языческий орнамент из цветов и трав, снова творится причудливая языческая вечерня:
С 1915 года в поэзии Есенина появляются пейзажи, где условность изображения превращает зрительные образы в символы особого «созерцательного» мира, как говорили древние иконописцы.
Вот стихотворение «Осень»:
Осень — рыжая кобыла, схимник-ветер — это образы условные, но видимые, а как изобразить Русь в образе распятого Христа, да еще незримого? И здесь рябиновый куст, такой знакомый и понятный образ, делает зримым символический образ распятого Христа — страдающей, истекающей кровью Родины.
Интересно, что Есенин здесь очень далек от символистов. Он идет от символа к зримой детали, а не наоборот. Не ягоды рябины символизируют раны распятого Христа, а эти раны — символ зримого мира.
Такое растворение символа в реальности характерно для древнерусской иконы и древнерусской литературы. Троица Рублева — сложнейший символ — превращается в зримый образ Руси, объединенной общей жерственностью и общей любовью.
В стихах Есенина, как в русском народном творчестве и древнерусском искусстве, всегда есть особый условный язык. Есенин писал, что конек над крышей крестьянской избы — живое воспоминание о былых временах, когда кочевники-скифы осели на наших землях. Аналогично этому в современных американских деревнях в крыльцо, как правило, вделано старое колесо — живое воспоминание о первых переселенцах. Русский конь и американское колесо- символы, которые не требуют разъяснений для тех, кто помнит истоки своей культуры. Любой крестьянин знал во времена Есенина, что изображение ягненка — это символ невинной жертвы, и внешне спокойный пейзаж Есенина был насыщен для него глубоким трагизмом, если он слышал такие строки:
«Ягненочек кудрявый — месяц» в «неколебимой синеве» — образ, который по яркости изобразительности и глубине трагизма сопоставим с рублевской троицей, а световое сочетание — лунное золото в синеве напоминает его палитру.
Видя просветленные лица рублевской троицы, мы не почувствуем трагизма и печали эпохи Куликовской битвы, если упустим из поля зрения зарезанного агнца, лежащего в чаше страданий, которую до дна испила русская земля на Куликовом поле.
Стихи Есенина насыщены золотым и серебряным светом и переливаются, как драгоценные оклады икон.
Алое, синее, золотое — три главных цвета древнерусской живописи. К этой палитре чаще всего прибегал Есенин:
А когда пришла революция, красный цвет, как на иконах, изображающих воскресение, хлынул на страницы есенинских стихов:
И, наконец, единый золотой мерцающий свет заполняет всю палитру Есенина:
Здесь золотой фон приобретает символическое значение, как на древнерусской иконе. Золотом иконописец писал небо и небесный свет. Золотой фон символизировал изначальный свет, из которого все возникает и в котором все растворяется. Есенин низводит это небо на землю, золотой становится сама Русь. Русская земля — храм, небо и рай поэта. Золотой, серебряный, малиновый звон наполняет его ранние стихи.
У Есенина все краски — звенящие. Все откликается на призыв поэта: «Звени, звени, златая Русь».
Этот звон переходит в набат в революционных стихах поэта:
В 1918 году в первую годовщину Октября исполнялась кантата Есенина в память жертв революции. Траурная кантата, казалось бы, должна была создавать впечатление торжественной печали, светиться траурным цветом,- Есенин наполнил ее алым и золотым сиянием.
Вот тогда и появился в его стихах образ красного коня, как образ восставшей России:
Революцию Есенин воспринял, как сошествие на землю «Голубиной книги». Он всем сердцем ощутил, что пробил час мировой справедливости, и впервые почувствовал себя пророком, но не библейским грозным предсказателем бед и горя, а радостным вестником грядущего дня — русским мальчиком-пастушонком, как бы сошедшим с картины Нестерова «Видение отроку Варфоломею»:
Вдохновенно поэт возрождает, казалось бы, давно погибший языческий мир славянства, в котором все природные явления были одушевлены.
Прообраз человеческого мира Есенин чувствует в каждом дереве, в каждой травинке:
Трудно согласиться с теми, кто считает революционные поэмы Есенина слишком отвлеченными и риторическими. В этих поэмах есть строки, перекликающиеся с пушкинским пророком.
Если раньше поэт чувствовал себя смиренным странником иконописцем, запечатлевающим звенящую Русь и тело незримого распятого Христа, то теперь рождаются бунтарские иконоборческие строки:
В революции Есенин видит воскресение древнего славянского коровьего бога:
Вспомним, что раньше был «незримый Христос»:
И хотя поэт пишет:
мы по-прежнему видим ту же солнечную золотую, синюю, алую палитру древнерусской живописи.
И заканчивается поэма «Инония» образом сходящего на землю Христа, скачущего верхом на крестьянской кобыле. Блок видел в поэме «Двенадцать»
Христа в белом венчике из, роз, идущего впереди революционных солдат. Есенинский Христос — крестьянин, вышедший из самых глубин золотой Руси, где соединяются воедино земля и небо. Революции представляются поэту рождением новой религии, где языческий мир славянства врывается в православие:
Иконописный образ Христа, въезжающего на осле в Иерусалим, превращается в образ нового крестьянского спаса.
В поэме «Иорданская голубица» Русь видится поэту храмом, где он принимает крещение революции:
Чувствуя, что старая Русь навсегда уходит, Есенин снова возвращается к апокрифическим образам народных сказаний, как бы обводя последним взором уходящую Русь:
В «Повести временных лет» сохранилось предание, что апостол Андрей — первый ученик Христа бывал на Руси. Вот как об этом пишет летописец Нестор:
«А Днепр впадает устьем в Понтийское море; это море слывет Русским, — по берегам его учил, как говорят, святой Андрей, брат Петра. «
Крестьяне Рязанской губернии, не читая «Повесть временных лет», считали, что апостол Андрей бродил с дудкой пастушеской в ивах, как и запечатлел этот образ Есенин.
Апокриф «Хождение богородицы по мукам», где богородица, спустившись в ад, молит грозного сына сжалиться над грешниками и спасти их от мук, был особенно любим русским народом. Этот русский прообраз «Божественной Комедии» Данте помнил и Алексей Толстой, назвавший свою трилогию о революции «Хождение по мукам». Есенин запечатлел отголосок этого апокрифического сказания в одном четверостишии «Иорданской голубицы»:
Но все чаще и чаще поэт и сам чувствует необходимость «спуститься на землю», к родным лесам и нивам, к земле, по которой бродят апостол Андрей и крестьянские богородицы.
Золотой и алый цвет все чаще растворяется в белом, синем и голубом. Алое становится розовым, наступает «златое затишье»:
Цветовая палитра этого стихотворения уже сама по себе — поэзия. Проследим цветовые чередования: белый, красный, золотой, алый, белый, синий, розовый. Здесь оживает палитра Рублевской Троицы, где все эти краски даны не в контрастном сочетании, а во взаимопроникновении, что создает ощущение единства всего сущего. Как и русские иконописцы, Есенин пользуется простыми цветами и смешивает их, не растворяя друг в друге, так что мы видим алый и белый в отдельности и в соединении, когда он розовый. Если в стихах, посвященных революции, Есенин затоплял золотым и красным светом свои полотна и его стихи были похожи на иконы Новгородской школы, где все цвета соседствуют в ярком контрасте, то теперь он близок к Московской, Рублевской школе живописи, где контрасту предпочитается взаимопроникновение красок, каждая из которых сохраняет свое отдельное звучание и в то же время сливается с общей гаммой.
Есенину понятна цветовая символика древнерусской живописи, давно ставшая обиходной в повседневном русском быту. Белый — символ чистоты, голубой и синий — символ устремленности к небу, то есть к чему-то недосягаемому, золото — изначальный свет и красный — цвет любви, горения, страсти.
Порой в его стихах господствует голубой и розовый, белый исчезает; общий золотой фон — бывший символом иного мира — как бы одомашнивается, превращается во что-то близкое и знакомое: «золотою лягушкой луна распласталась на небе ночном».
Совершенно по-иному в «Сорокоусте» снова возникает образ красного коня; теперь это красногривый жеребенок, скачущий за поездом, «тонкие ноги закидывая к голове».
В последний раз проносится перед нами уже не красный, а розовый конь Есенина:
«Розовый конь» и «красная кобылица» навсегда исчезли в изобразительной системе стихов Есенина и только иногда, как далекие отголоски былого, возникал иронический стих:
Поэт с улыбкой вспоминает о своем «иконоборческом» бунте в стихах, обращенных к любимой женщине:
Красный цвет рябины и золотой цвет листвы, как всегда, рядом с голубым, по-прежнему главным цветом в есенинской палитре, но теперь это цвета холодные, цвета горящей осени.
Строгая, прозрачная и холодная гамма фресок Дионисия возникает в этом стихотворении. Впервые появляется приглушающий сиреневый цвет, как бы втягивающий в себя все другие цвета палитры.
В 1925 г. Есенин почти полностью отошел от былой многоцветности. Почти все стихи этого цикла насыщены трепетным дыханием синевы. Цвет становится объемным, живым, многотонным:
Золотой фон теряет прежнюю яркость и лишь приглушенно мерцает сквозь синеву:
И только два цвета, черный и белый, вдруг возникают контрастно и ярко, как предвестие какой-то трагедии:
Белый конь в народном сознании символизировал смерть.
Черный и белый цвет в последних стихах Есенина уже не мог вытеснить голубую, розовую, зеленую, сиреневую, золотую, звенящую Русь. Так же как в древнерусской живописи черный ад и белая смерть лишь оттеняют золотое, красное и голубое цветение жизни, трагические цветовые контрасты в стихах Есенина поглощены многоцветным гимном вечной жизни и вечному воскресению Родины.
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки: